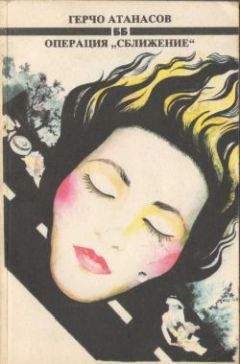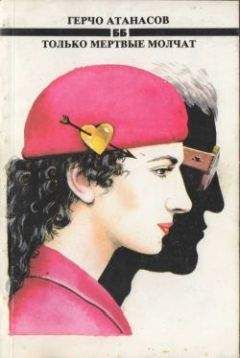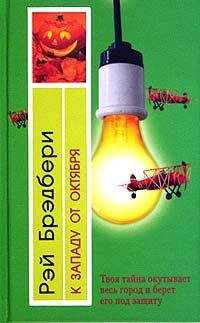и конгрессах. Параллельно с этой консульской деятельностью Грашев занимался мелочами быта, вроде своевременно приобретенных и обставленных апартаментов — для себя, для всех чад и домочадцев, большой дачи под столицей и еще одной дачи, в родном краю, поближе к жизни, к землякам. Просторные домины он украшал каминами на европейский и старинный болгарский лад, завел покои в народном стиле и венские гостиные, увешал их картинами, половина из которых была подарена или выпрошена, и старинными иконами. В родном краю он устраивал ужины, созывал на них главным образом местное начальство и с озабоченным видом разглагольствовал, напирая на мораль. Гости почтительно слушали и кивали, а Грашев распалялся до того, что обвинял во всяческих грехах чуть ли не всю нацию. Нет такого великого писателя, предупреждал он, который не посвятил бы себя народу, но нет и такого, который не высказал бы ему тяжких упреков. Возьмите хоть Ботева, хоть Алеко, возьмите Захария Стоянова… Знай нашего Колю, государственных масштабов человек, говорили одни гости, а другие тихомолком подсмеивались: они кое-что знали об ораторе и были уверены, что наш Колю не выскажет своему народу тяжкого упрека — слишком доброе у него сердце…
Порой Няголу казалось, что Грашев хорошо знает, что почем в этой жизни, и всегда был холодным циником, но потом он отмахивался от таких заключений, видел в нем нечто свойское, родимое, замечал торчащие уши мелкого жулика и говорил себе: нет, неправ Бюффон, не стиль, а характер делает человека. Наверняка и у меня то же самое, только некому сказать мне это…
— Колю, — прервал он наконец Грашева, — давай перейдем на другую тему, подальше от наших забот.
— Извини, дорогой, — без притворства обиделся Грашев, — какой смысл в утилитарных разговорах, когда перед нами во весь рост стоят глобальные вопросы? А ты как, начал новый опус?
— Какой опус?
— Ладно, ладно, нечего…
— И не думал, — откровенно соврал Нягол.
— Кому ты говоришь, — твой последний роман плачет по продолжению. Да я по глазам вижу, что ты уже половину отмахал!
Нягол пожал плечами и опрокинул рюмку.
— Послушай, брат, — Грашев последовал его примеру. — Мы с тобой не соперники, а старые волы, тянем одну упряжку, прокладываем самую глубокую борозду. Правильно?
Нягол смотрел на него, не говоря ни слова.
— Кто еще, скажи на милость, лезет в драку, кто расчищает авгиевы конюшни, может… — и Грашев назвал несколько имен. — Как бы не так! Один ударился в историю, другой в гротеск, третий-в обряды и мистику районного масштаба, четвертому подавай интерьеры и психиатрию… А кому пахать народную ниву? Няголову и Грашеву, у них есть опыт… Ты на меня не смотри такими глазами, тут целый заговор…
Кое в чем Грашев был прав, но его слова каким-то образом моментально обращались против него самого.
— Мужское у нас ремесло, Колю. Каждый сам должен решать, что и как.
— Потому что мы честные люди, потому что у нас — Грашев указал на свою тщедушную грудь, — вот где болит… Дочитал я новый кирпич нашего Енчо, знаешь, конечно. И что? Притчи, метафоры, параболы — читаешь и кричать хочется: да разве это наша жизнь, наши проблемы, это ли магистральное направление?
Нягол стоически слушал. Эх, Колю Грашев, Колю Грашев… Знаю я твою болячку, знаю, где у тебя зудит, если бы ты мог — сегодня же взялся за эти самые параболы и местные притчи, да только они тебе не даются, ты из другого теста, вот и корчишь из себя Геракла перед авгиевыми конюшнями… А все-таки чистил их Геракл или не чистил?
С этого момента Нягол перестал слушать Грашева.
Днем прогулялся по городу, обошел книжные магазины, заглянул на одну выставку, звонил Маргарите. Она не отвечала. После обеда поднялся в свою пыльную мансарду, вздремнул и проснулся в каком-то муторном настроении: не хотелось ни читать, ни браться за какое-нибудь дело, например, навести чистоту. Он потоптался по дому, как старый медведь в берлоге, включил проигрыватель, немного послушал и выключил. Набрал номер телефона и продиктовал телеграмму Елице, чтобы не ждала его сегодня. Ей придется ночевать одной впрочем, в этом нет ничего особенного, хотя — как сказать: девушка, да еще с ее коварной болезнью.
Нягол вздрогнул. А вдруг ей, не дай бог, станет дурно, именно сегодня, когда она будет одна? Нет надо ехать.
В справочной аэропорта ему ответили, что билетов нет. Нягол снова схватился за телефон. Пусть Иван заберет Елицу к себе или, в крайнем случае, пусть Стоянка у нее переночует. Телеграмму-молнию приняли сразу.
Он вытянулся в шезлонге на террасе. В такие послеобеденные часы Витоша казалась умытой и свежей. В молодые годы, когда город еще не подступил к ее подножию, Нягол любил смотреть на Витошу с балкона какого-нибудь высокого дома — она казалась интимно близкой, очертания были четкие, подробности — видны глазу. Вечером на ее темном теле мелькали редкие одинокие огоньки, а не лучистые усики ползущих машин. Витоша походила на гигантское древнее животное, уснувшее под еще более древним небосводом.
Теперь картина совсем иная. Украшенная россыпью огней, освещенная заревом миллионного города, Витоша будто уменьшилась ростом, осела, утратила свое достолепие древности и незыблемости. Что это — внушение, обман чувств или человек и в самом деле способен подавить собой целую гору? Наверное, молодым и привычным глазам она кажется неизменной, а то и еще более внушительной, прелестной. Особенно влюбленным…
Влюбленные… Это слово звучит для него все более отвлеченно, заставляет испытывать какое-то личное неудобство, граничащее с самоиронией. Влюблен ли он в кого-нибудь, во что-нибудь? В Маргу? Нет, с самого начала это была скорее привязанность, порой — страсть, а больше всего — теплота товарищества. Елицу он любит отечески, это совсем иное. Та, без которой он не представлял себе будущего, особенно когда был в тюрьме, как сквозь землю провалилась. Время взяло свое, все кончено, он никогда ее не увидит, не услышит ее голоса, не почувствует ее ладони в своей — ну почему, господи?.. Ему удалось сохранить в памяти ее бледный лик, обрывки фраз, детали походки, исчезающие мгновения близости. Ее образ, уже иконописный уходит все дальше туда, вглубь, черты его расплываются и он, тайно преклоняя колени, уже не имея сил просить, только робко вопрошает: за что, господи?
Под вечер он дождался Весо у служебного входа, они обменялись рукопожатием и пошли, не выбирая направления. Прозаседались сегодня, признался Весо, спина одеревенела, а в голове пусто. Ну что, проводил деда Петко, телеграмму получил? Нягол кивнул. Такова жизнь — круговорот, в котором оказываешься лишь однажды. «Однажды, — повторил