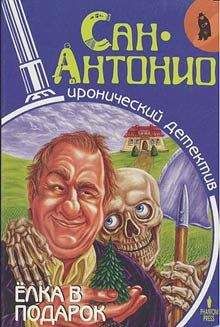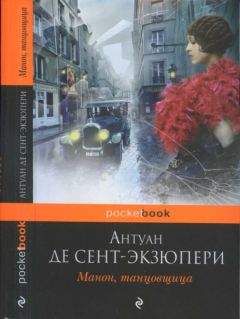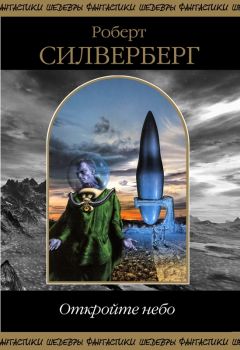капитан?
– В котором часу вылетаем?
Альяс в скорбной задумчивости кивает.
– В половине шестого вам уже следует находиться в воздухе.
Тони берет под козырек. И пока шагает к соседнему зданию, он думает о том, что этот вечер может стать для него последним. С обычных заданий возвращается один из трех экипажей; когда задание «хреновое», статистика ухудшается. Среди пилотов есть такие, кто перед вылетом на боевое задание ищет приятелей и пьет с ними пиво, чтобы в голову не лезли мысли о том, что через несколько часов лететь навстречу неминуемой гибели, к тому же, вполне возможно, абсолютно бесполезной.
Тони предпочитает посвятить эти часы раздумьям и своим заметкам, призванным прояснить ему самому смысл его гибели в утреннем небе над Аррасом. Главный штаб постоянно меняет дислокацию, связь с ним практически отсутствует. Его жизнь будет разыгрываться в рулетку, а цель – добыть сведения, воспользоваться которыми в нынешнем хаосе не сможет никто. Но все же он приходит к заключению, что в этом и заключается участие в войне: когда настает твоя очередь, ход – твой, и ты двигаешь свою пешку против целого ряда слонов и ладей. В этом смысл игры.
Когда он открывает глаза, на дворе все еще глухая ночь, а будит его, тряся за плечо, не кто иной, как майор Альяс. Тот смотрит на него так же пристально, как и вчера вечером.
– Если вы не чувствуете себя полностью готовым к выполнению этого задания, я могу вас заменить.
Тони садится в постели. Командир как мать, что может разрешить приболевшему ребенку остаться греться, свернувшись калачиком, под одеялом, вместо того чтобы идти в школу. У детей свои привилегии.
– Я готов, командир.
Альяс глядит на него с серьезностью, смешанной с сочувствием.
– Сегодня вечером, командир, мы с вами выпьем по чашечке того кофе со вкусом носков, что варят у нас на кухне.
– Пришлю к вам ординарца, поможет со снаряжением.
Надеть снаряжение – целый ритуал. Однако, ко всему прочему, помощь ему и вправду необходима, потому что проблема с плечом делает почти невозможным надевание трех слоев снаряжения, положенного пилоту. Нужно закрепить на себе контур обогрева, контур подачи кислорода, соединенный с маской, а также переговорный контур, чтобы иметь возможность переговариваться с фотографом-наблюдателем и стрелком. Когда процесс завершен, он чувствует себя одним из глубоководных ныряльщиков в свинцовых ботинках, как у Жюля Верна в романе «Двадцать тысяч лье под водой».
Покачиваясь, он идет с шлемом в руке к самолету. В эту секунду он страстно желает, чтобы случилось хоть что-то, что отменит задание, хоть какая-нибудь техническая проблема с самолетом – тот самый термометр во рту мальчика, который покажет повышенную на несколько десятых температуру, и это позволит не пойти в школу. Это не страх, страх – другое: нервозность, нетерпение, испуг. А он ощущает лишь давящую лень, что сплющивает его в лепешку, некую дремоту, повинную в том, что единственное его желание – упасть в одно из потрепанных кожаных кресел в офицерской гостиной, свернуться в нем калачиком и уснуть. Но судьба спать не позволяет. Ларингофоны переговорного устройства работают, контуры снабжения кислородом открыты, индикаторы давления масла говорят, что все в порядке. Машина готова, экипаж на своих местах, их ничто не задерживает. Все ждут, когда он отдаст приказ.
– Взлетаем.
– Хорошо, мой капитан.
Он бы, наверное, предпочел услышать какое-нибудь возражение от своих подчиненных или тяжкий вздох в наушниках. Но они идут на это задание с твердостью, граничащей с чистым безумием. Они знают, что, с высокой степенью вероятности, погибнут, но все, что имеют ему сказать, это: «Хорошо, мой капитан». Может показаться бредом, но он любит этих людей. И не потому, что они патриоты или отчаянно смелы. Это фраза – «Хорошо, мой капитан» – не прозвучала ни восторженно, ни даже с малой толикой энтузиазма. Все знают, что их жертва нисколько не поможет Франции в ее невозможной борьбе с германским нацизмом. Они сделают фотоснимки, которые, скорей всего, не попадут обратно на базу, а если и попадут, то уж точно не дойдут до Главного штаба или не будут приняты во внимание в сумятице передислокаций и постоянных передвижений. Идя на эту жертву, они не думают ни о Гитлере, ни о родине, они просто-напросто думают об одной гораздо менее значительной вещи: о том, чтобы выполнить задание.
Все эти мысли сбиваются в его голове, когда они достигают высоты в десять тысяч метров. Дремота сладостна, недостаток кислорода превращает мозг в подобие джема.
– Капитан, компас.
Дютертр прав, это его ляп: отклонился на несколько градусов от курса на Аррас. Нужно нажать на педаль, чтобы заложить вираж, вот только балансир примерз. Он давит на педаль, толкает ее, чтобы она пошла, отстала, но ничего не выходит. Дьявол ее дери! В эту секунду он не ненавидит нацистов, не ненавидит Гитлера, не ненавидит войну, не ненавидит этих генералов, что играют в шахматы девятнадцатилетними пешками. Ненавидит он только этот заевший балансир. Только это важно. Это его война. Он нажимает изо всех сил. Усилие на такой высоте выливается в головокружение, перед глазами вспыхивают огни. Он не может разблокировать балансир и не может позволить себе еще одно такое усилие – возможна потеря сознания. Нужно медленно компенсировать передачу серией зигзагов. Усталость усиливает вялость. На авиабазе-то кровь просто бурлила, а прошлой ночью он даже еле заснул. Сейчас же, когда они приближаются к позициям немцев, ему кажется, что он того и гляди провалится в сон.
– Капитан, немецкие истребители на сорок пять градусов.
Он поворачивает голову и видит ос. Шесть «мессершмиттов». Они разворачиваются. Идут по их душу.
– Стрелок, приготовиться.
– Готов, капитан.
И снова пантомима. Постановка на сцене провинциального театра о войне