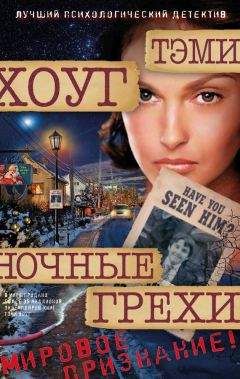живет, а тут – Улав… Он видит, у кого на окнах занавески и у кого дом покрашен. Но потом он выпрямляется, чувствуя, будто вторгся туда, где делать ему нечего, и отдает трубу отцу.
Мартин приник к окуляру, но смотрел недолго и вскоре тоже отвел взгляд. У Ханса появилось ощущение, что они с отцом в чем-то сошлись, в том, наверное, что эта подзорная труба им ни к чему. На Лофотены они берут с собой трубу поменьше, однако и ею не пользуются: что бы ты в нее ни увидал, оно исчезает, едва перестаешь смотреть.
Но эта подзорная труба тяжелая и длинная, промышленное изделие высшего качества, скорее всего, очень ценное. Так, сходу, Хансу и не вспомнить, есть ли у него что-либо такое же ценное. Секстант, разве что, или компас на шхуне у Эрлинга – они тоже фамильные.
Еще что-нибудь?
А какими, собственно, ценностями он вообще обладает?
Ханс относит подзорную трубу в дом и зовет Марию в южную залу, где кладет трубу на подоконник и предлагает жене посмотреть на остров Бюёй, где прошло ее детство. Она садится на колени на кровать, видит дом и вздрагивает. Он спрашивает, что ей видно. Мария отвечает, что пока непонятно, прикрывает один глаз и вглядывается. Ханс ложится на кровать и смотрит на Марию. Та говорит, что, кажется, видит людей. Судя по выражению лица, она удивляется, будто старается распробовать что-то и не может решить, нравится ей это или нет.
Дай гляну, – просит он.
Он видит здания и пересчитывает их: восемнадцать со всеми хозяйственными постройками и лодочными сараями. У пристани пришвартована рыбацкая лодка, она медленно опускается вниз, оставляя в поле видимости лишь самую верхушку мачты, а после так же медленно поднимается. Это мертвая зыбь прячет от них лодку, и она же вновь поднимает лодку вверх. Однако людей Ханс не видит, зато что-то вроде бы похожее на овец, кажется, лошадь, вспаханную на зиму землю…
Мария опять берет у него из рук подзорную трубу.
Закинув руки за голову, Ханс снова откидывается на спину и говорит, что они остались без денег. Мария отрывается от окуляра и смотрит на мужа. Он повторяет это еще раз, но теперь на нее не смотрит. Она отвечает, что знает, судя по тону, радости ей это знание не приносит. В подзорную трубу никто из них больше не смотрит.
Мария спрашивает, зачем он сказал ей об этом сейчас. Ханс отвечает, что не знает.
Все совсем плохо? – спрашивает она. Он не отвечает. Она спрашивает, насколько все плохо. Ханс не рад, что завел разговор. Взгляд ее меняется. Она замахивается на него подзорной трубой, он спрашивает, не убить ли его она надумала. Она отвечает «да» и снова поднимает подзорную трубу. Он хватает ее за руку, его так и подмывает сорвать с нее одежду и получить ее улыбку, прямо средь бела дня, посреди работы. Но вместо этого он встает, не слушая ее криков, он и так знает, о чем она кричит, спускается вниз и выходит во двор, где стоят и смотрят на него отец и Ингрид.
– На чего это вы уставились?
Мартина словно с поличным поймали, он разворачивается и, неловко размахивая руками, шагает к лодочному сараю. Ханс смотрит ему вслед, не зная, двинуться ли за ним, прямо с подзорной трубой.
Ингрид спрашивает, что это. Ханс говорит, что это подзорная труба. Девочка спрашивает, что это за такое.
Смотри, – говорит он и шагает к въезду на сеновал, кладет трубу на кочку и зовет Ингрид. Она заглядывает в окуляр и вздрагивает. Этот ее смех. От него не всегда радостно. Она долго смотрит в подзорную трубу на дома на Стангхолмене и улыбается, а потом он говорит, что хватит, забирает подзорную трубу и спускается к лодочному сараю. Останавливается рядом с отцом, и они смотрят друг на друга, словно между ними есть что-то недовыясненное.
Стоят так они недолго.
Мартин поднимает ящик, где лежат смотанная поддевная уда на морского окуня и коробка для наживки, и идет к пристани. Ханс заворачивает подзорную трубу в холщовую тряпку, идет следом и засовывает сверток на верхнюю полку, где труба будет лежать, пока кто-нибудь не наткнется на нее в следующий раз и не скажет – о! подзорная труба! – а в голове у Ханса вертится мысль, что не зря глаза видят не дальше положенного им, так лучше и глазам, и тому, на что они смотрят, но сам он, по крайней мере, теперь и думать забыл о неприятном – о деньгах, самом удручающем канате, который швартует их к материку.
По звукам с кухни Ингрид поняла, что дело неладно. Одного голоса не хватало, голоса Барбру.
Мама же говорила чересчур громко, и когда Ингрид спустилась на кухню, умолкла.
За окном была зима, темно и безветренно. Спустя несколько часов небо посветлеет, а днем, возможно, на юге проглянет красное солнце. Только Барбру не было. Они с яликом исчезли, даже и гадать не пришлось, следы вели лишь в одну сторону, по свежевыпавшему снегу к лодочному сараю, а там обе двери так и стояли распахнутыми. Парус она не взяла, ушла на веслах, но в море никого видно не было.
Лодок у них несколько, большая и маленькая плоскодонки и еще один ялик, изготовленный в Биндале. Но лодок они снаряжать не стали.
– А Барбру куда подевалась? – спросила Ингрид.
– Нету ее, – ответила мама.
Прошел день, и никто ничего больше не сказал. Все стало иначе, даже дедушкины руки изменились. Лицо у дедушки посерело. Вечером Ингрид разрешили спать на отцовской кровати, как бывало раньше во время его поездок на Лофотены. Мария сказала, что впредь надо чаще кормить овец березовыми ветками, их надолго хватает, сена стало маловато, а ведь еще коров кормить и лошадь. Она еще сказала, будем надеяться, что морозы отступят, тогда скот можно выпустить на берег, возможно, оттепель принесет с собой дожди, и тогда животные хоть травы прошлогодней пощиплют.
Ингрид попросилась сесть с вязаньем в кровати.
Мария спросила, не холодно ли?
Нет, если одеяло на плечи накинуть.
Мама прилегла рядом, она объясняла и показывала, пока не заснула. Тогда Ингрид отложила в сторону вязанье и тоже уснула. Проснувшись, она обнаружила, что мама по-прежнему спит. И кошка тоже. По бледному свету за окнами Ингрид догадалась, что они проспали. На ее памяти такого с ними еще не бывало.
Она встала, спустилась в холодную кухню, натолкала в печку щепок и полешек, потом еще торфа,