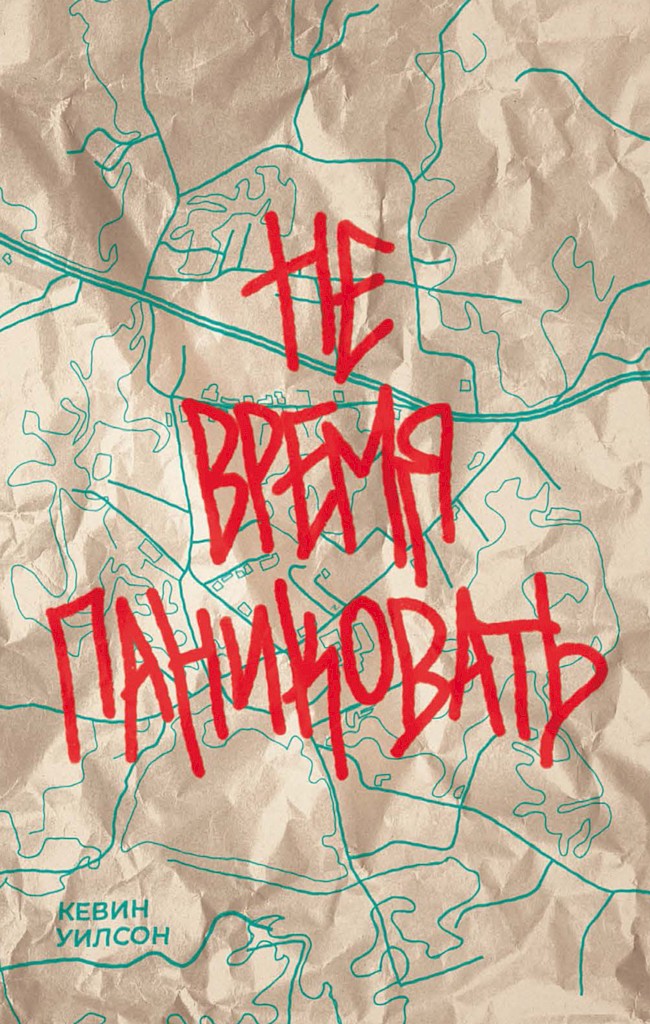просторном мягком кресле в гостиной, мне пришлось бы заодно представить себе и его новую жену, как она, например, печет на кухне блины. А еще мне пришлось бы представить себе ту, другую, Фрэнсис, как она сосет сухарик, держа его непослушными пальчиками. Было странно, что отсутствие отца заставляло меня прилагать массу усилий к тому, чтобы вытеснить его из своей головы, а иначе он занимал бы в ней слишком много места. Я предпочитала думать, что он умер и оставшееся после него наследство поступает к нам в виде ежемесячных выплат, которых едва хватало на одежду и продукты.
Еще я пыталась представить в нашем доме Зеки, но ничего не выходило, пока тут оставался хоть кто-то еще. Я могла вообразить только одного Зеки, как он сидит на диване и приглашает меня сесть с ним рядом. Покончив с одной коробкой печенья, я тут же захотела открыть вторую, но решила приберечь ее на потом. Мама посмотрела на меня и улыбнулась.
— Ты выглядишь сегодня по-другому, — заметила она.
— Забыла причесаться, — сказала я, испытывая неловкость.
— Дело не в этом, ты просто выглядишь счастливой, — сказала она.
— Тогда ладно.
— Честно говоря, непривычно видеть тебя такой. Ты выглядишь чуточку сумасшедшей.
— Спасибо, мама.
— Встречаешься сегодня с Зеки?
— Возможно, — ответила я неопределенно, хотя, разумеется, я с ним сегодня встречаюсь.
— И что будете делать?
В это мгновение я почувствовала, как во мне что-то раскрывается, и поняла, как трудно прожить день, когда ты чем-то одержим, но не можешь ни с кем об этом и словом перемолвиться. Меня подмывало сказать маме, что я — беглянка и стала беглянкой так неожиданно, что едва могу сама в это поверить. Мне хотелось спросить, хорошие или плохие люди золотоискатели. Узнать, считает ли мама золотоискательницей меня. Хотелось поделиться ощущением, которое испытываешь, прижав лист бумаги к кирпичной стене и приклеивая его полоской клейкой ленты. И скотч пытается пристать к шероховатой поверхности, ведь ему так важно на ней удержаться. Мне хотелось сказать, что, возможно, если бы мама тоже сделала постер и анонимно отправила его отцу по почте, ей стало бы лучше. Мне хотелось сообщить, что я умею дышать в унисон с «Ксероксом» и что мои внутренности — словно копировальный аппарат. Хотелось спросить, можно ли заняться сексом, лишь бы наконец закрыть этот вопрос, на самом деле им не занимаясь. Хотелось узнать, просил ли ее мой отец при первой встрече надрезать палец и скрепить кровью какую-нибудь странную клятву. Хотелось показать ей свой роман про плохую девчонку. Почитать ей его. И чтобы она сказала: «Очень хорошо написано, Фрэнки». Я бы ей тогда призналась: «Я чувствую себя здесь чужой», а мама бы спросила: «В Коулфилде?», и я бы ответила: «Везде». Рот мой был широко открыт. Мама и не догадывалась, о чем я могла бы ей рассказать и о чем расспросить.
— Болтаться, — ответила я наконец, — просто болтаться.
Мама смотрела на меня. Если бы она опять заговорила про презервативы, я бы умерла. Я желала, чтобы она поняла, что во мне есть что-то намного более загадочное, пусть я даже сама не знаю, что именно.
— Ну что ж, хорошего дня, — сказала мама, поцеловала меня, взяла кошелек и ключи и вышла из кухни. Я же взяла вторую коробку с печеньем и съела его в три приема.
— Пока, дурында, — сказал Чарли.
Братья дружно поднялись и вышли из дома, аж зашатавшегося под их шагами. Я пожалела, что у меня нет пары сестер-близнецов. Если бы нас было трое, то есть три Фрэнки, я, может, не дергалась бы так сильно, пытаясь уместить все в одной дурной башке. Я подумала о той, другой Фрэнсис, моей сводной сестре. И решила, что, когда она станет подростком, я подкачу к ее школе на серебристом «порше» и украду. Увезу в Коулфилд. Покажу один из своих постеров. И если она его не поймет, отвезу обратно к папашиному дому и вышвырну из машины, не сбавляя хода.
Ритм этого лета был таким, что едва я успела умыться и почистить зубы, как взмокший от поездки на велосипеде Зеки уже стоял возле нашей двери. Он сильно нервничал и чуть ли не вломился в дом.
— Твой сосед на меня таращился. Он какой-то подозрительный. Возможно, он знает, чем мы занимаемся. На нем какая-то странная пижама.
Я вышла на крыльцо и увидела мистера Эйвери, который помахал мне рукой. Я помахала ему в ответ.
— Это не пижама, — сказала я, словно это было самым важным в сообщении Зеки, как будто вообще имело какое-нибудь значение. Однако для меня имело. — Это хаори.
— Что? — спросил Зеки.
— Вроде кимоно, но попроще. Типа пиджака. Он как-то мне рассказывал про это.
— А кто он?
— Мистер Эйвери. Вообще-то он из Лос-Анджелеса, но теперь живет здесь со своей сестрой. Аккуратный. Раньше был художником. Он довольно серьезно болен. Потому и носит хаори, говорит, что ему все время холодно.
— Он был художником?
— Ну да, вроде того. Однажды он пытался мне это объяснить, сказал, что это называется перформансом.
— Я кое-что знаю про… перформанс, — сообщил Зеки.
— Вот этим он и занимался. В Лос-Анджелесе. Думаю, что и в Японии. Именно там он раздобыл свое хаори. Он очень им гордится.
— Думаю, он знает, чем мы занимаемся. Он и впрямь на меня таращился.
— Вероятно, ему интересно, что ты здесь забыл, ведь ко мне никто никогда не ходит. И вообще ему скучно. Он постоянно сидит дома, изредка только гуляет по кварталу. По-моему, у него рак. Ему хватает забот и помимо наших дел.
Наверное, следует уточнить, что все это происходило до того, как стало возможно найти какую угодно информацию в интернете. Я вообще тогда едва ли пользовалась компьютером. Да и вряд ли Рэндольф Эйвери был человеком, известным любому коулфилдскому подростку в девяностые годы. Лишь потом я сообразила, кем он являлся и насколько знаменит был когда-то. Он прославился как художник в начале восьмидесятых; его произведения выставлялись в Музее современного искусства в Нью-Йорке и в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Он переехал к своей сестре, заведующей почтовым отделением Коулфилда, за два года до этих событий, и все это время был для нас лишь мистером Эйвери, странноватым, милым человеком, который иногда разговаривал со мной с отсутствующим видом, словно понятия не имел, как он здесь очутился.
— Чем ты занимался вчера вечером? — спросила я Зеки.
— В основном рисовал в своем блокноте. В бабушкином доме не так уж много можно придумать для себя занятий. У нее нет ни кабельного телевидения, ни даже видика. Зато ее все время тянет