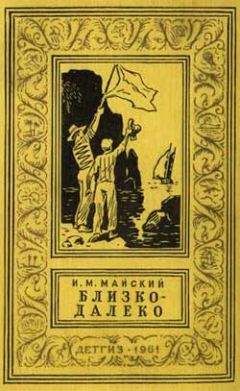— Здравствуй, здравствуй! А я все гадала на тебя. Хорошо тебе будет, денег много, много. Только…
— Здравствуй, сорока! — снимая фуражку и идя за занавеску, ответил Косяков. — Значит, вела себя смирно, умницей и не плакала?
— Так, немножко, — ответила Софья Егоровна.
— Это с чего? Опять? — сердито откликнулся Косяков, причем за занавеской послышался треск кровати.
— Скучно мне, Никаша, — заговорила, оправдываясь, женщина, — сидишь, сидишь. Гадаешь, а потом думаешь… Вот бы гулять пошла, на улице светло, светло…
— Глупости, пыль, жара, — вяло отозвался Косяков.
— По пыли бы ногами потопталась. Господи! И за что мне!.. Опять, для тебя — вижу я — обуза обузой. Ни тебе хозяйкой, ни тебе женой. Урод, калека… умереть хочется. Лягу я в сырую землю в тесном гробу и буду лежать смирно-смирно…
— Будешь, будешь, — уже сквозь сон ответил Косяков и захрапел, а Софья Егоровна откинулась к спинке кресла, заломила руки в отчаянье и заплакала.
Спал и Грузов в своей крошечной комнате, предварительно намазав мазью верхнюю губу и наказав мамаше разбудить его к семи часам.
В семь часов он проснулся и, приведя себя в порядок, пошел к Косякову.
— Здравствуйте, здравствуйте, — радостно приветствовала его Софья Егоровна, — а вы за ним опять? Крикните ему, он и проснется. Я всегда его так бужу!
— Никанор! — крикнул Грузов.
— А? Что? Пора? — послышалось из-за занавески.
— Самый раз!
— Я мигом!
Косяков заворочался и через минуту вышел, натягивая на себя пиджак.
— Моя-то сорока, смотри, мне денег нагадала, — сказал он шутливо, — я ей за это орехов принесу.
— Принеси цветков мне. Я их поставлю и нюхать буду, а потом зажмурюсь и подумаю, что гуляю по лужку, — попросила Софья Егоровна, и лицо ее приняло мечтательное выражение.
— Фантазии все! Ну, да гадай лучше — и цветов принесу. Что нагадала еще? А?
Жена смутилась.
— Так, всякое…
Косяков взялся было уже за фуражку, но при ее словах остановился и сказал:
— Ну, что еще? Говори!
Она смутилась еще сильнее и едва слышно ответила:
— Так… глупости… будто казенный дом выходит…
Косяков вздрогнул. Как все невежественные люди, он был суеверен, и лицо его вдруг приняло сердитое выражение. Он подбежал к жене и торопливо стал собирать со стола карты.
— Казенный дом! — говорил он сердито. — Ах ты, глупая сорока! Еще напророчь, проклятая. Вот тебе, поганая, вот! И не будет тебе карт!
Он хлопнул ее картами по носу и быстро переложил карты на комод. Софья Егоровна заплакала.
— Никаша, что же я без карт? Одна! Милый! Не сердись на меня, глупую. Никашечка!
Но он надел фуражку и сердито вышел из комнаты.
— Нет на нее смерти и нет! — сказал он, когда они вышли на улицу. — Да, теперь я ее в больницу отдам, и кончен бал! Сил нет! Острог нагадала, нате-ка!
— Брось! — успокаивал Грузов. — Гаданья — глупости.
— Все же неприятно! — ответил Косяков.
— Ну, ну, — остановил его Грузов, — что ты ему говорить будешь?
— Ему-то? — Косяков передернул плечами. — Я уже обещал ждать неделю и буду! Но тем временем мы можем к ней наведаться? А?
— Подождем, — ответил Грузов, — все-таки оно, знаешь, не того. Обещался и… вдруг…
— Как хочешь, как хочешь. Ну а через неделю снова.
— К нему?
— Ну да! Ты, собственно, прав, — Косяков тряхнул головою, — потому что он-то уж оповестил ее всенепременно.
Грузов был очень доволен его одобрением и улыбнулся.
— Надо все, чтобы по чести, — сказал он, — если он будет платить, пусть он; если откажется, пусть она. Они поймут, что имеют дело с порядочными людьми.
— Верно, друг, верно! — кивнув, сказал Косяков, но при этом так прищурил глаза, что, взгляни на него в эту минуту Грузов, и он смекнул бы, что дружба при делах — крайне непрочная связь.
— Иди же! — сказал Грузов, когда они дошли до сквера. — Я зайду в "Золотой якорь" и подожду тебя. Он уже, наверное, там!
— Лечу! Мигом!
Косяков рванулся и устремился в сквер, но едва он переступил за его ограду, как тотчас умерил свой шаг и принял вид наслаждающегося вечерней прохладой господина.
Анохов действительно уже ждал его.
— Вот ваши деньги, — сказал он брезгливо, подавая Косякову конверт и не отвечая на его поклон. — За них вы должны молчать неделю! Так?
Косяков поклонился.
— Можно вам верить?
Косяков выпрямился.
— Я беру от вас деньги не считая и верю вам. Верьте и вы моему слову! — гордо сказал он.
— Отлично! Пройдемте сюда, здесь темнее… Так! Ну, а за сколько вы продадите все векселя?
— Не торгуясь — за половину!
Анохов повернулся и пошел прочь от Косякова.
"Это еще милостиво, — думал он со злобною усмешкою, идя по направлению к вокзалу, — мог спросить и десять, и двенадцать, и все пятнадцать тысяч. Милостиво! Но откуда их взять?.. Пятьдесят рублей и то не достанешь. Положим, она. Но на сколько времени хватит и ее? О, подлость!"
Он топнул ногою и прибавил шагу.
Молодой человек хорошей фамилии, он имел перед собою всю будущность и вдруг запутал себя так глупо, так гнусно… Положим, женщины великодушны. Дойди до огласки, она не скажет, что он делал надписи, но это все делалось для него — этого нельзя скрыть. Какой скандал!.. Разорвать связь и бежать. Но она бешеная, она все может.
Анохов даже похолодел при этой мысли.
Только на вокзале он несколько рассеялся. Манька-гусар, одна из звезд местного полусвета, села за его столик и вполголоса напевала ему отрывки из цыганских романсов; из зала доносилось пение хора. Широкая Волга чернела своею водною гладью, и взор терялся в полумгле летней ночи. На душе становилось ровнее.
Маньку отозвали в хор, Анохов на время остался один и отдался мечтам, так легко овладевающим слабыми душами.
Он уедет в Петербург, и там его тетушки и дядюшки похлопочут за него все в том же министерстве. Его могут сделать чиновником особых поручений при министре. Летние командировки, а зима вся свободна и в сплошных развлечениях. Можно будет подобрать девушку с деньгами, с влиятельной родней и жениться. Только бы здесь…
Его лицо опять омрачилось, но в эту минуту к нему подошел его товарищ по училищу, Краюхин, состоявший товарищем прокурора при местном окружном суде. Круглое, всегда довольное лицо его с маленькими черными усиками и круглыми глазами напоминало кота. Среднего роста, с небольшим брюшком и тою солидностью, которую стараются придать себе ограниченные люди, он являлся типичным представителем провинциальной бюрократии.
— Жан! — окликнул он Анохова. — Сидишь и, видимо, пребываешь в мехлюндии?
— А ты чего так сияешь? — спросил Анохов, здороваясь с ним.
— Рад и горд, — сказал Краюхин, садясь к столику, — мне поручено обвинение по делу об убийстве Дерунова, громкое дело! Я обдумываю речь! — И Краюхин многозначительно поднял брови.
— Какая же речь, если убийца еще не найден?
Краюхин улыбнулся.
— Между нами, — сказал он таинственно, — убийца найден. Пришел и сознался. Некий Захаров. Какой-то бухгалтер… дикарь!
— Найден? — заинтересовался Анохов. — Какие же мотивы?
— Видишь ли, между нами… Ты позволишь? — он взял стоявшую на столике бутылку и налил из нее в стакан. — Мы собрали справки. Он отказывался объяснить, но мы добились сути. Дерунов этот жил с его женою. Смазливая бабенка, боец… — он отхлебнул из стакана. — Оказывается, они на другой день собирались с Деруновым ехать по Волге, и муж узнал. Узнал и… — ну, скажи, не дико ли это?.. — сейчас и расправа.
Краюхин развел руками и заговорил, уже не смотря на Анохова и, видимо, слушая самого себя:
— Пора же быть культурными людьми и не мстить смертью за измену жены. Легкие измены стали столь обыденным явлением, так вошли в нравы, что, ей-Богу, тогда бы пришлось перерезать семьдесят пять процентов жен и столько же мужчин, холостых и женатых. Чувство свободно! Я живу с чужою женою, что же за резон меня резать? Дико! Некультурно! Разведись, в крайнем случае, если тебе не страшен скандал, но резать?! — он вздернул плечами и уже спокойнее продолжал: — Тем более что я не век буду жить с нею. Она останется при муже, как скоро я к ней охладею и оставлю ее. Это так вошло в жизнь, так обыденно, что мстить за это кровью — значит, помимо всего, подрывать общественное спокойствие, зиждущееся на мнимом неведенье. Ведь была же кровная месть — она отошла в предание, пора и месть за измену призрачной супружеской верности сдать в архив. Женщина всегда обманет, обманывай и ты, но бить ее, убивать любовника… фи! Это только извинительно мужику, но не тем, кто хоть слегка причастен культуре. Я изменил женщине, она плещет мне в лицо кислоту, бьет у меня в квартире окна, стреляет в свою соперницу; мне изменила жена — я ее режу, убиваю ее любовника. Да этак жить нельзя будет! До сих пор старались в ревности находить смягчающее обстоятельство, я хочу первый восстать против этого! Убийство и есть убийство, а это еще с подкладкою дикости. Пора дать чувствам свободу!.. — он осушил стакан и долил его снова.