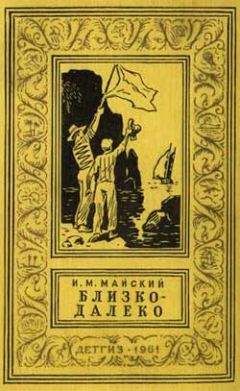Под впечатлением его речи в душе Анохова сложилось решение. Он сочувственно кивнул ему головою и сказал:
— Действительно, ты прав! Чувство должно быть свободно, а мы его часто держим в рабстве и, вместо того чтобы сказать надоевшей любовнице: "Оставь меня", говорим ей по-прежнему о любви из глупого страха или сожаления.
— И в результате — нелепость! — убежденно сказал Краюхин. — Не стесняйся сам и не стесняй другого!
— Золотые слова! — подхватил Анохов и вздохнул с облегчением. — Ах, Жорж! — сказал он в порыве откровенности. — Я переживал это рабство чувства и только вот теперь сбросил с себя его цепи…
— По этому случаю выпьем! — засмеялся Краюхин и постучал стаканом по бутылке. — Еще бутылку! — сказал он лакею, отдавая ему пустую.
— Выпьем! — ответил Анохов. — А через три дня твой коллега dahin![2]
— Куда же?
— В Питер! А там? Как устроюсь! Иначе, брат, мне не отыграться от…
— Можаихи, — цинично заметил Краюхин.
— Ну ее к черту! — грубо ответил Анохов.
"Убийца Дерунова найден и арестован". На другой день это известие было напечатано в местных газетах, но городские кумушки, опережавшие любого репортера, называли уже убийцу по имени.
— Слышали? — спрашивал один служащий в канцелярии другого.
— Слышал, — отвечал другой, и тогда спросивший тотчас отворачивался с недовольной миною, поджидая другого, менее сведущего.
— Слышали? — спрашивал он этого другого.
— Ничего, а что случилось?
Лицо вопрошавшего озарялось самодовольством, и он с видом человека, извещенного лично председателем суда, сообщал:
— Наш-то тихоня, Захаров, арестован! Оказывается, он Дерунова-то убил!
— Не может быть?!
Изловивший слушателя приходил в восторг. Он начинал оживленно рассказывать, возвышал голос, изменял его, махал руками и чуть не в лицах изображал сцены убийства, ареста, допроса и проч. Вокруг него собиралась кучка любопытных, и даже сторож, отойдя от вешалки, слушал вполуха.
Авдотья Павловна Колкунова, дымя папиросою, полулежала в позе отдыхающей у ручья нимфы и говорила своей дочери:
— Я всегда чувствовала, что он разбойник. Недаром мы ненавидели друг друга. Но не плачь, все к лучшему! Его отошлют на каторгу, и ты свободна… Мы уедем в Петербург и там…
— Но скандал, мамаша, — всхлипывая, отвечала Екатерина Егоровна, — меня звали к следователю и такое спрашивали… а потом то же будет и на суде.
Обольстительная полковница загасила папиросу и снисходительно улыбнулась.
— Дурочка ты моя! — сказала она. — Да ведь тебе теперь известность-то какая! Чего бы не дала любая из нас, чтобы из-за нее другого зарезали!
Екатерина Егоровна выдавила улыбку.
— Самоубийство и то возвышает женщину в глазах мужчин, а тут — на тебе! Понятно, — продолжала мамаша, — здешнее общество вознегодует, пожалуй, отвернется от нас, закроет двери, но только из зависти! А нам наплевать. Да пожелай ты теперь — ты всех мужей отобьешь, глупая! А она плачет.
Полковница поднялась, вальяжно села на диван и сказала:
— Налей мне кофе!
Дочь, видимо, успокоилась, и беспечная улыбка появилась на ее губах.
— Смотри, не сегодня-завтра к нам на вечерний чай столько напросится народу! — полковница плавно повела костлявой рукой по воздуху. — И все тебе сочувствовать будут!
При этом предположении дочка полковницы не удержалась и уже весело смеялась от удовольствия.
Волосатый Полозов в своей тесной конурке, называемой редакцией, стоял перед беспечно сидевшим перед ним Силиным и ласково говорил ему:
— Голубчик, вы сделали передо мной свинство; обещались, а сами и в «Газету» описание убийства отдали…
— За двойню! — перебил его Силин.
— Ну, хорошо, мы квиты! — торопливо заговорил Полозов. — Только теперь, милушка, не обманите! Одному мне. Я уж по шесть копеек дам, только на совесть!
— Идет! — согласился Силин. — Я, признаться, вас уважаю больше, чем его. Он любит сплетни сводить, а я таких не люблю, но уговор! — Силин поднял руку, а Полозов беспокойно стал трепать свою густую бороду.
— Принимать все, не вычеркивать ни строки и за все шесть копеек. Кроме того, сегодня двадцать пять рублей вперед. Я к Можаевым еду, — окончил он торопливо.
— Что же, — уныло ответил Полозов, — я согласен. Вот вам! — он полез в боковой карман пиджака, вынул засаленный бумажник, долго рылся в нем, слюня короткие пальцы, и подал Силину пачку затрепанных ассигнаций. — И что вы мне дадите?
— Каждый день сообщения по мере продвижения следствия. Потом интервью с его женою, — Силин загнул палец, — интервью с Иваном…
— Это кто же?
— Лакей покойного. Он все его шашни знал!
— Гм, — произнес редактор.
Силин продолжал:
— Интервью с Лушкой. Горничная Захаровых. Наконец, с защитником и прокурором! И отчеты из зала суда.
Редактором овладело оптимистическое настроение. Он закивал головою.
— Что же, валяйте! Жарьте, черт возьми! — произнес он, одушевляясь. — Мы задушим «Газету». Фельетон Долинина произвел вчера фурор. Триста нумеров продали лишних. Вы читали?
Силин махнул рукою.
— Он мне на просмотр давал. Перечти, говорит, и черкни, если что я лишнего махнул.
— Бойкий, бойкий фельетон, — похвалил Полозов, — особенно это место! — он схватил газету, поводил по ней носом и, указывая на строки пальцем, густым басом прочел: — "И верьте, нет мелкой гадости, нет преступной мысли, едва мелькнувшей в голове вашей, — я не говорю уже о преступлении, — которые не понесли бы за собою казни. Ничто не простится! Преступления против плоти казнятся немощью, против духа есть большая казнь, и, верьте, она настигнет: настигнет среди сна, среди игры и веселия, в момент упоения любовью. За все расплата, и путями таинственными, часто ножом убийцы замахивается незримая рука Вечной Правды". А, сильно? Ведь это намек на Дерунова, на его жизнь! — Полозов аккуратно свернул и положил газету на стол.
— Тут и я припустил малость, — сказал Силин, вставая, — насчет ножа-то — это мое. Ну, до свидания, послезавтра я здесь, а завтра перешлю вам с нарочным!
Он ушел, а Полозов некоторое время задумчиво смотрел ему вслед и, наконец, со вздохом произнес:
— Каналья, слов нет, а нужный человек. И боек же!
Он покачал головою и уселся править корректуру.
Весть об аресте Захарова добралась и до Можаевки.
Было четыре часа. Все, кроме Весенина, уехавшего в город, сидели на широком балконе, выходившем в сад, и пили послеобеденный кофе. Лиза играла в саду: нянька качала ее в гамаке, и она весело смеялась при каждом взмахе.
Анна Ивановна, оправившаяся от первых впечатлений, задумчиво смотрела в сад. Вера то беспокойно взглядывала на нее, то ласково смотрела на отца, стараясь поддержать беседу, которую вел он один, отдохнувший среди природы от городских дрязг и увлеченный своими затеями, бодрый и веселый.
Какой контраст с ним, стариком, представляла Елизавета Борисовна. Она была совершенно безучастна и к окружающей природе, которая в этот час была великолепна в своем ослепительном сиянье, и к разговору, и к людям. Постоянная тревога наложила на ее лицо отпечаток, и оно побледнело, в то время как глаза вспыхивали лихорадочным блеском. Но едва она приходила в себя и замечала тревожный взгляд мужа, как тотчас начинала возбужденно говорить и смеяться.
Можаев рассказывал о столкновении с рабочими. — Никогда прежде этого не было, — говорил он, — пока не появился петербургский фрукт. Лодырь, слоняется, ничего не делая, и всех сбивает. Кроме того, оказался вором. Его поймали, как он с мельницы муку крал. Федор Матвеевич прогнал его, а теперь еще хуже. Сегодня время горячее, коси, не то поздно будет, а он — нате! — всех мужиков сбил, что дешево работают. Я на луг. Галдят, и он впереди всех.
— Ну, и что же? Ты им прибавил?
— Если бы я прибавил, я бы на себя руки наложил. Они решили бы, что я струсил. И ты знаешь меня, разве я мужика жму? Я этого Ознобова пригрозил прибить, а их пугнул. Стали работать, но вяло. А этого франта пришлось в холодную взять. Хлопот с ним!..
— Он опасен? — тревожно спросила Вера.
— Беспокоен, а как убрать его мирным порядком, и не придумаю. Придется станового приглашать и его выселить. Тем более он дальний.
— Откуда же он?
— Лужский мещанин из Петербургской губернии! А, Степан Иванович! — весело воскликнул Можаев, поднимаясь с кресла. — Милости просим! Обедали? Какие новости?
Силин стоял на пороге балкона во всем великолепии своей персоны. Просторный чесучовый пиджак, широчайшие брюки, белый жилет и цветное белье с небрежно повязанным галстуком, концы которого виднелись из-под его густой бороды.
Он поклонился всем и потом, войдя на балкон, стал обходить всех по очереди. Сестру он нежно поцеловал в лоб; Елизавете Борисовне почтительно поцеловал руку; Вере пожал кончики пальцев и сказал: