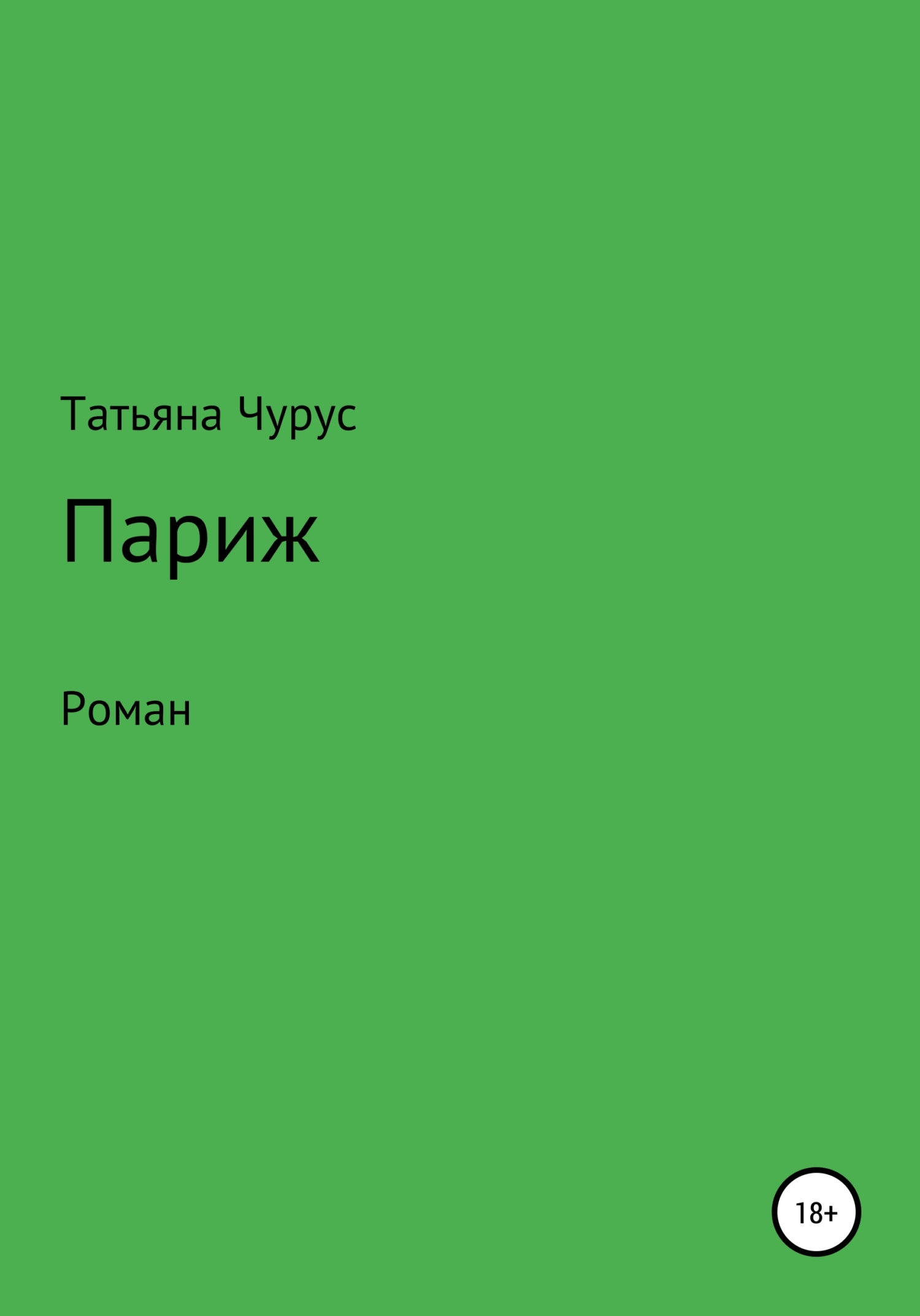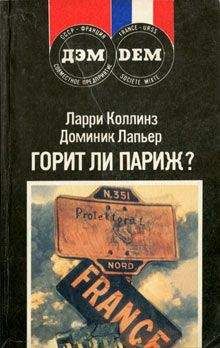качает головой. «Пошли, а?» – губошлепит Димка Шишкин. «Да ну вас, надоели!» – кокетливо тяну я, а у самой сердечко сейчас вылетит – и за гаражи, за гаражи! И тут слышу: «Таня…» Кровь фонтаном к голове – Алеша! Стою… вот так Ромка Бальцер стоял: пурпурная, словно в багрянице… «Таня…» «Ре́бзя, зырь, “Турист”! Клёвый вело́с!» – А Алеша «гарцует» на новеньком велике: такому даже не простой смертный позавидует! Бальцер, Шишкин и Гофман с Обидиным облепили чудо техники: охают, качают головами, раздувают ноздри, бьют ребром ладони по шинам, клаксонят – Алеша молча смотрит на меня, потом резко отталкивает моих «четырех мушкетеров» (я уже успела мальчишек так прозвать; все наши девчонки сходят с ума по Боярскому – Д’Артаньяну (мама моя говорит, что Боярский не поет, а «блеет»), и Аленка тоже сходит, я знаю, а мне нравится Атос – Вениамин Смехов: он и в фильме про Клаву К. играет; Ираида Николаевна, которая была в Париже: «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – его на сцене Таганки видела, вместе с Высоцким (говорят, чтобы достать билетик, нужно стоять в очереди всю ночь!): «Какой актер!» – Ираида Николаевна молитвенно складывает руки и закатывает глаза), Алеша молча смотрит на меня, потом резко отталкивает моих «четырех мушкетеров», кричит «Садись!» – и мы мчимся по школьному двору под свист и вздохи: «Ну Чудинова, ну ты ваще, блин!» (мы с девчонками любим говорить: «Не вообще, а в лапше!»).
А Аленка бы, Аленка бы непременно пропела: «Ну да, Таня?» Эх, жаль, что ты не видишь меня, Аленка, не видишь, как я еду с Алешей, восседая на багажнике моднячего ве́лика, как Шишкин, Бальцер и Гофман с Обидиным бегут следом, расстреливая нас из самодельных трубочек, как Табуретка выглядывает из окна и лукаво улыбается: «Ну-ну!» – словно вождь с трибуны Мавзолея. «Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж, Париж-Париж! А-а! А-а!» – тихонько пою я в Алешину спину: какое это счастье – обхватить Алешу сзади, прижаться к нему, родному, теплому… А потом кататься весь вечер по городу, вернуться домой в одиннадцать, получить от мамы по губам – и кинуться ничком в постель под Галинкины взгляды исподлобья, папины матюки и бабушкины причитания: «Эх Танюха ты горюха!»
Я большая, я совсем большая! Я стою перед этим сборищем теток и дядек (если честно, дядька всего один – это наш директор Сергей Леонидович, «слизняк заикастый!») – и эти тетки и дядьки бросают в меня камни: «сорвала торжественную линейку», «презрела нормы», «недостойна высокого звания октябренка», «советские дети так не поступают», «опозорила честь школы», «фривольно ведет себя с мальчиками»… Мама – ее уже зажала в коридоре своей квадратной жопенью Табуретка и пригрозила исключить «вашу асоциальную дочь» – мама, опрысканная духами «Дзинтарс», в новеньком голубом кримпленовом костюме (вот вырасту – куплю себе такой же костюмчик!), в белых лакированных туфлях с пряжками – сидит точно пришибленная. Папа – он уже стукнул по столу Сергея Леонидовича и звякнул медалькой «50 лет ВЧК» – рыскает глазами по лицам «бросающих камни» и отчаянно грызет ногти. Вдруг дядька – Сергей Леонидович – заткнул уши пальцами, затряс головой и по слогам выдавливает из себя: «Т-товарищи, п-п-подождите! Это суд Линча к-к-какой-то!» Я не знаю, что такое суд Линча, Степанида Мишка, завучихи Табуретка и Дина Семеновна – кажется, тоже: они «выпучили шары» (Степанида Мишка размазала помаду по подбородку) и уставились на Сергея Леонидовича так, будто это Ленин спрыгнул с портрета и забрался на броневик (я в каком-то фильме видела… странно, все называют Ленина дедушкой, а какой он дедушка: лихо забирается на броневик, лихо машет руками и лихо «разоблачает врагов» (это папа так говорит)).
«Т-таня, ск-к-кажи, – палит из пушки Сергей Леонидович, пока тетки рты раззявили, – т-тебе нравится учиться?» В воздухе повисла огромная жирная пауза, будто клякса, которая вот-вот плюхнется кому-нибудь на плешь. «Очень, – вздыхаю я (тетки выдыхают), – но не в школе». Тетки набирают воздуху в легкие и выпячивают свои «выдающиеся бюсты». Сергей Леонидович испуганно пригибает голову («как из-за угла мешком пуганый», сказала бы сейчас про этого «слизняка несчастного» мама, но она и сама сидит как пришибленная), Сергей Леонидович испуганно пригибает голову, словно это ему́ на плешь плюхнулась жирная клякса. «В школе неинтересно, – разбузыкиваюсь я всё больше и больше, – а в учебниках пишут всякую муть с жутью (мама покрывается темными пятнами, словно далматинец), я это и так знаю». «А к-к-какие книги т-ты читаешь?» – Сергей Леонидович уже не рад, что связался со мной: лоб его покрывается испариной, очки запотевают, он трясет головой, точно «кобыла необъезженная» (бабушка так говорит: «кобыла необъезженная» – когда я разбузы́каюсь и начинаю дурить) – а я медленно начинаю загибать пальцы: «”Легенды и мифы Древней Греции“ (Сергей Леонидович надменно глядит на теток: что, съели?), ”Занимательную арифметику” Якова Перельмана (тетки задирают носы: подумаешь!), ”Speak English” (Степанида Мишка фыркает), стихи Владимира Высоцкого (Сергей Леонидович поправляет очки на носу, тетки переглядываются: нет, ну вы гляньте на нее, бесстыжая!)…» И только я хочу произнести «Библию» – я даже успеваю пропищать «Би…» – как перекошенное папино лицо бьет меня током. «Если спросят, что папка принес, скажи, Устав КПСС», – эхом отдается в моей голове. Папа – они с мамой сидят на задней парте, как двоечники – презрительно покачивает головой: эх ты, предатель… «Д-достаточно, Т-таня, – обрывает меня Сергей Леонидович, – нам всё п-п-понятно». «Что вам понятно, Сергей Леонидович?» – подает голос Дина Семеновна с выдающимся бюстом: голос у нее глухой, габариты внушительные, и я, если честно, побаиваюсь ее (я называю Дину про себя Горынычихой – но об этом не знает никто, даже Аленка). «П-понятно, что Т-таня развита не по г-годам», – огрызается Сергей Леонидович. «Вот именно!» (ми-до-до-до) – стреляет глазами Горынычиха. «Вот именно!» (ми-до-до-до) – подхватывает Степанида Мишка. «И что вы предлагаете?» – скрипит Табуретка. «Что п-п-предлагаю? – Сергей Леонидович чешет переносицу. – Д-думаю, Т-тане не место во втором к-к-классе». Бедная мама, она вытирает пот со лба новеньким крепдешиновым шарфиком. Папа отчаянно грызет ногти. «Вот и я говорю: исключить!» – вопит Табуретка. «Исключить!» (си-си-си) – басит Горынычиха. «Исключить!» (си-си-си) – поддакивает Степанида Мишка. «А я с-с-считаю, – Сергей Леонидович испуганно озирается по сторонам, – что Т-таня… что Т-таня… – он смотрит на меня с нежностью (вот бы Аленка увидела – умерла бы от зависти!). – …что Т-таня («заблеял», слышу я мамин шепоток)… не т-такая, как все! И к н-ней н-нужен особый п-п-подход! М-может, из нее вырастет н-н-новый Эйнштейн… или Н-н-нейгауз… или…» «Уважаемый Сергей Леонидович! Я сорок лет в школе! – заводит Табуретка. Горынычиха и Степанида Мишка почтительно кивают: мол,