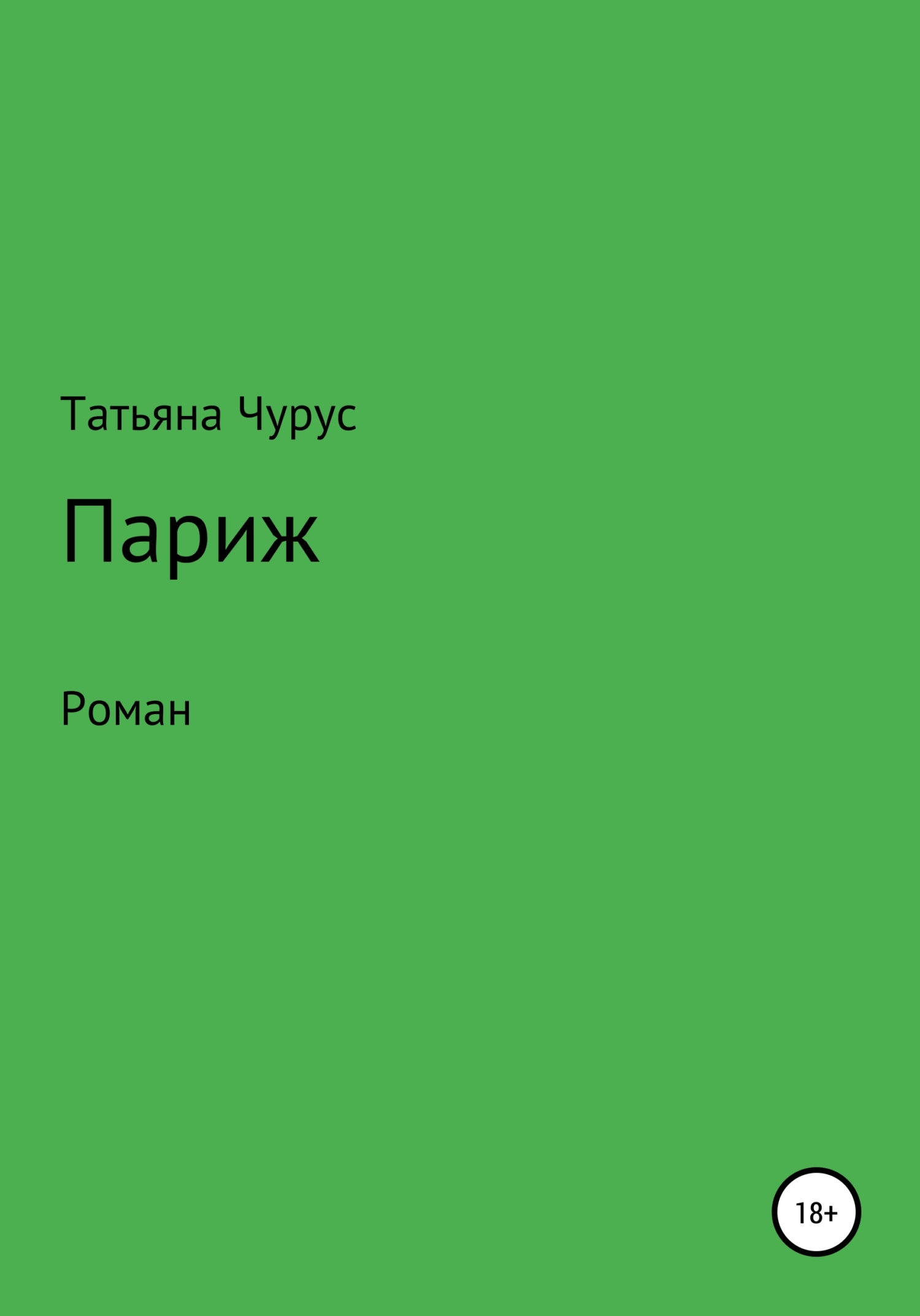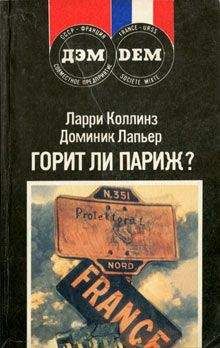подстгелила». «А вы, господа, зверьи!» – гундосит Чарльз Дарвин и показывает язык. (Так говорила «раба любви»: «Господа, вы звери!» – и уезжала на трамвае, в светлое ли будущее, на тот свет ли… Мы с Аленкой даже поспорили: она топорщила свои косички и по-лисьи щурила глазки («Ну да, Таня, она поехала к нашим!»), а я округляла глаза («А зачем нашим эта женщина с нимбом?») А потом я брала массажную щетку, начесывала свои кудрявые волосы нимбом, складывала молитвенно руки и тоненьким голоском пела: «Господа, вы звери…» – до-до-до-до-ре-до.)
«А вы, господа, зверьи!» – гундосит Чарльз Дарвин и высовывает язык. А там за окном – вот же он, вы его не видите, а я вижу! – стоит Алеша и держит в руках мое сердце! Он держит его так крепко, так нежно, так бережно! А оно трепещет, словно птица! Белая голубка!
Но когда Степанида Мишка вызовет маму в школу: «Ваша дочь презрела все нормы советской школы!», а завучиха Нинель Поликарповна просифонит: «Исключить! Исключить из школы! Позор!», когда папа стукнет кулаком и брякнет медалькой «50 лет ВЧК» в кабинете директора Сергея Леонидовича: «Товарищ директор! От своего лица и от лица “кэгэбы” торжественно обещаю взять на поруки Чудинову Татьяну», а Лилия Емельяновна, Аленкина мама, попросит Степаниду Мишку «оградить ее дочь от тлетворного влияния этой бесстыжей», – мое сердце даже не шелохнется.
А Степанида Мишка выносит «на всеобщее обсуждение осуждение поведения октябренка Чудиновой Тани». «Кто за то, – размазывает помаду по подбородку Степанида Мишка, – чтобы вынести Чудиновой Тане строгий выговор?» Тридцать две руки взлетают над тридцатью двумя головами в знак согласия. Аленкина рука – так кажется мне – взлетает самая первая, тощие косицы топорщатся, глазки щурятся, и я словно бы слышу: «Ну да, Таня?» Я скучаю по тебе, Аленка, скучаю! Но ты больше не хочешь меня знать, ты теперь дружишь с Алиской Сусекиной. У нее мать торгашка – и Алиска считает себя не простой смертной. Но вслух считает, не то что я: я храню военную тайну. Финские сапожки и японскую курточку я ношу словно бы исподлобья, с чувством вины перед девчонками и мальчишками в отечественных сереньких пальтишках и туфельках. Алиска же щеголяет в сапожках-дутышах открыто: «Мама достала, импортные», – приторным голоском поет она и задирает нос. Правда, «поет» – это громко сказано. Учились мы в первом классе, и в школе объявили набор в хор – так и было написано на большом плакате, что висел прямо на входной двери: «Объявляется набор в хор. При себе иметь голос и слух. Запись у Нины Павловны». Нина Павловна – это наша училка по музыке, она очень похожа на мадам Грицацуеву из фильма «Двенадцать стульев», у нее даже мушка над верхней губой, как у Грицацуехи. Мы звали ее поначалу Па́ллна, а потом стали звать По́ллна: уж слишком толста. Приходим мы в актовый зал. «Ну что? – кокетливо отставила в сторону жирную ляжку Поллна. – Голос и слух у всех есть?» Мы – я, Аленка, Кузя, Данька Пеньков, Алиска Сусекина – киваем: у всех, мол. Поллна, сверкая своей мушкой, раздает нам какие-то бумажки – и к пианино (несмотря на солидные габариты («сто двадцать кило!», удивленно пропел мой папа, увидев Нину Павловну), Поллна легка на подъем, кажется, будто внутри она совершенно пустая): «Ребята! Сейчас мы будем петь с вами песню итальянских партизан “Белла Чао”. И-и! – Поллна, взмахнув рукой, голосит: – Я проснулся сегодня рано. / Белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, чао, чао». «Я проснулся сегодня рано / В нашем лагере, в лесу», – подпеваем мы. «Чудинову слышу, – поет Нина Поллна, – уже в хоре». Я сияю. «Сусекина!» – вопит Поллна. Алиска заводит: «Светит солнце, сияет ярко». «Не слышу», – тренькает Поллна. «Белла, чао, Белла, чао, Белла, чао, чао, чао, – шипит Сусекина. – Светит солнце, сияет ярко. / В гости к солнцу я иду». Я затыкаю уши. Белесая Сусекина шевелит бескровными губами, испуганно поглядывая на Поллну. Та морщится, лупит по клавишам. «Завтра на хор приходит Чудинова». Нина Поллна швыряет крышку пианино на клавиши – те взвизгивают, взлетает, словно воздушный шарик, – и за дверь, будто ее и не было, будто она мираж, дымка. «Ну чего рот раззявили?» – теть Паша, наша уборщица, гремит ведром. Мы вздрагиваем. «Завтра на хор приходит Чудинова», – эхом отдается в моей голове. Однако завтра в третьем ряду хора стоят Аленка с Алиской Сусекиной – меня поставили в четвертый.
Аленка – тощие косички топорщились, грудка вздымалась – сама мне рассказала (мы тогда еще разговаривали с тобой, Аленка, да еще как разговаривали… эх, Аленка…).
Сразу после прослушивания Поллну вызвала к себе наша завучиха Нинель Поликарповна, или Табуретка: «Нина Павловна, Алена Буянова – отличница, гордость нашей школы. Я думаю, вы понимаете, что она должна петь в хоре». «Но она не умеет петь!» – тут Аленка покраснела: соврать не смогла, отличница несчастная, а правда глаза колет. «Вот вы и научите!» – отрезала Табуретка. А вот Алиска Сусекина «пролезла в хор по блату» (это сказала моя мама, но я тоже так думаю).
Ее мать, «торгашка чертова», приперла пухлую Поллну к стенке: «У моей Алечки слуха нет. Но зато голос прекрасный!» – а сама, «морда твоя торгашеская, сапоги этой музичке австрийские приволокла – я таких сроду не нашивала – и ассорти венгерское». Поллна – не будь дура – сапоги на «свои лядве́и» натянула: «Ну что ж, – говорит, – будем с Алисой теперь Моцарта и Листа разучивать». «Вот и правильно», – улыбнулась торгашка Сусекина своей золотозубой улыбкой (в тот момент не думала Сусекина-старшая о том, что Моцарт с Листом – австрияки: музыкально-торгашеские параллели ее мало интересовали) и сунула пышнотелой Поллне беленький конвертик. Правда, Поллна внезапно ушла в декрет. Живот у нее что до декрета, что во время оного был таким необъятным, что там смог бы поместиться не один малыш, а целый класс, так что заподозрить Поллну в беременности не взялся бы даже мой папа, который работает в «кэгэбе», где знают всё про всех. Но Поллна махнула рукой на «кэгэбу», ушла в декрет, нацепив на «свои лядвеи» новенькие австрийские сапожки и сожрав венгерское ассорти (говорят, когда ждешь малыша, очень хочется солененького), – и распустила хор на все четыре стороны. Алиска Сусекина скривилась: «Мама ей ассорти носила, а она…» Не люблю я эту Сусекину: белесая какая-то. Когда мы строимся на линейку всем классом, Сусекина встает вторая, сразу после меня. «На первый – второй рассчитайсь!» Я поворачиваюсь лицом к ней: «Первый!» Она – к Вадьке Янькину (Вадька в строю третий): «Второй!» – и хлещет меня по щекам своей толстенной косищей,