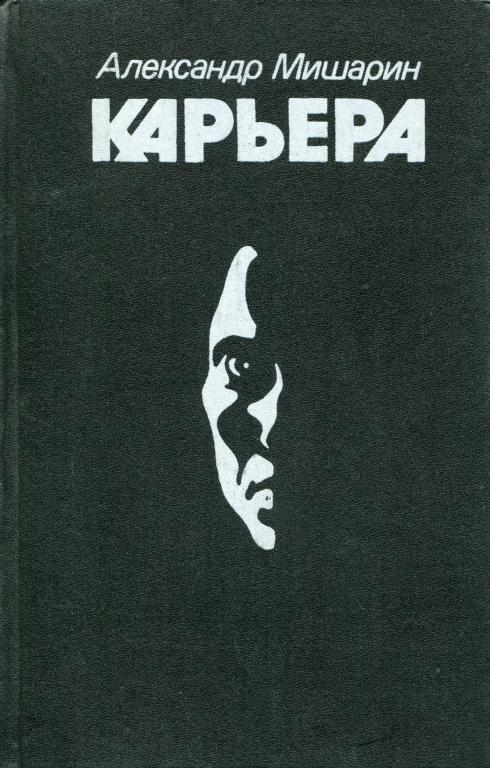над сумасшествием… И когда он нашел в дневнике Толстого запись: «Я боялся говорить и думать, что 99 % людей сумасшедшие»… Ему не то чтобы стало легче, но он вдруг понял, что это не только его, Кирилла, особенность… Не болезнь характера, а реальность. А реальности он поклонялся больше всего на свете — так уж вышло в его жизни. И, наверно, поэтому он все чаще, — то ли чтобы убедиться, то ли по-прежнему ища защиты, — читал, путался и снова читал старых философов, пока не набрел на запомнившиеся на всю жизнь слова Гегеля: «Разорванность сознания, сознающая и выражающая себя, — есть язвительная насмешка над наличным бытием и над самим собой. Это есть себя самое разрывающая природа всех отношений и сознательное разрывание их».
После этого вечера, когда он снова и снова перечитывал и перечитывал гегелевские слова, пока не понял их навсегда, он перестал искать оправдание себе в книгах… Замолчал, не пытался выяснить что-то подобное в пьяных, бестолковых беседах… И еще раз убедился, что ничего особенного, страшного, из ряда вон выходящего с ним не происходит. Что он такой же, как миллионы, и остался доволен этим. Он словно бы затолкнул куда-то в дальний, не доходящий до рук, угол квартиры свое «разорванное сознание». Он не хотел его знать! Он был крепок и здоров… Он был, как миллионы!
Сегодня, когда его поднял какой-то особо настойчивый, как ему показалось, звонок, он подумал, что звонит Марина. Но звонили из управления кадров.
«На днях тебе позвонят!» — невольно вспомнил тимошинские слова.
В девять тридцать он должен был быть у товарища… Он несколько раз переспрашивал фамилию, пока не записал ее.
Кирилл уже опаздывал. Он заставил себя полностью отключиться, делать все в два раза медленнее. Нарочито, специально, заколдованно медленно… Так он приучил себя с юности и знал, что это действует безотказно. Только так он все успеет, уложится в срок, ничего не забудет.
«Значит, все-таки нашли дело? — невольно мелькнуло у него в голове. — Отчего бы это? Да, да! Вчерашний разговор с Тимошиным?»
Он уже ехал в такси (которое по тому же закону «поспешай — медленно» будто бы ждало его у подъезда), когда в голову взбрела совершенно дикая мысль. «А может, это Марина?.. Может, они никуда и не уезжали? И Галя в Москве? И…» Вдруг кольнула острая — отточенное «перо»! — боль. «А как же Генка? Если они не уезжали? Эти же двое… «Аэрофлотовец» и «падший ангел»… Они ведь тогда бы нашли его?»
Это была уже сумятица, страх, а он сейчас не мог позволить себе этого. Сейчас он будет чисто выбритый, собранный, блестящий функционер, всем своим видом дающий понять, что у него-то, как ни у кого, все «о’кей».
Он легко взбежал по ступенькам — пропуск был заказан…
Все в здании «конторы» было по-прежнему. Очень свеже-белые шелковые гардины на дверях. Те же ладные, отменно здоровые лейтенанты у стола проверки документов. Та же подобранность, сознание своей значительности… Те же хорошо вымытые, блестящие мраморные полы, толстые красные дорожки. Тут же приглушенный говор, словно в этих стенах, как в церкви, нельзя ни крикнуть, ни расплакаться…
Шедший перед Корсаковым генерал (с большим количеством звезд на погонах!) при виде лейтенанта разулыбался и вдруг потерял всякую значительность. На лице лейтенанта сияло все могущество этого здания… И даже он, старый, известный Корсакову по портретам, вояка, хоть и на секунду, но потерялся.
— Седьмой этаж, лифт налево, — коротко и незаметно-фамильярно сказал дежурный, возвращая Корсакову пропуск.
— Я знаю! — все-таки не мог не показать независимости Кирилл Александрович и нарочито медленно двинулся к лифту.
В лифте они поднимались вдвоем с генералом. Тот смотрел на Кирилла с вопросительно-вспоминающим направлением.
— Добрый день, — поклонился Корсаков, тот, обрадовавшись, что его, наконец, узнали, непроизвольно приосанился.
Он выходил на пятом этаже и, поклонившись Кириллу, неожиданно сказал ему как старому знакомому:
— Приветствую!
Добавил, уже закрывая дверцу лифта, как старому знакомому:
— Заходите…
Когда лифт двинулся дальше, оторопевший Кирилл Александрович рассмеялся. «Куда заходите? Зачем?»
И в то же мгновение, подумав, что этот старый человек похож на его отца, он вздрогнул.
«А может быть, Логинов все-таки был вчера на даче? Поздно вечером? Может быть, поэтому Тимошин и не отпускал его допоздна? Чтобы он случайно или нарочно не предстал «пред светлые очи».
У нужной ему двери он задержался. Три раза глубоко вдохнул воздух, отключил внутреннее напряжение… Организм подчинился сразу же…
В небольшом светлом кабинетике, прямо напротив солнца, на «контражуре», сидел немолодой кудрявый «крепыш», плотно обняв себя за локти, словно замерз в этом душном, прокаленном солнцем кабинетике.
«Крепыш» посмотрел на севшего к его столу Корсакова, промолчал. Вздохнул раз, другой. Извинился и закурил, не предложив Кириллу Александровичу.
Откинулся на спинку кресла и снова, уже с новой точки, посмотрел на Корсакова. Так смотрят на вызывающую скорее удивление, чем уважение, диковинку.
Корсаков видел, что «крепыш» очень немолод, несмотря на молодые волосы… Несуразно тепло одет в очень толстую, простой, домашней вязки, фуфайку под немодным пиджаком.
Они сидели друг против друга, обменивались обычными, малозначащими казенными фразами. Обсудили погоду, отпуска, общих знакомых, а их, как оказалось, было немало — и в основном аппарате, да и по всему миру.
«Крепыш», представившийся Петром Петровичем, все время пытался показать Корсакову, что они люди одного круга. Что им не стоит что-либо скрывать друг от друга. И еще — скорее в его интонациях, чем в словах — сквозило некоторое сожаление о нынешних затруднениях Кирилла Александровича.
— Значит… Нашли все-таки мое «дело»? — спросил, наконец, Кирилл.
— Да при чем тут… «Дело»? — помрачнев, ухмыльнулся Петр Петрович. — Куда оно денется?!
Он снова начал вспоминать Рим, Вену, Париж… Там он, оказывается, тоже бывал довольно часто… Через какое-то время Корсакову уже казалось, что он наверняка его где-то видел. Может быть, даже знакомился с этим печальным, похожим на поседевшего «бычка», «вершителем» его судьбы…
— Может, пришла пора… подводить итоги? А? — туманно начал кадровик.
— В каком смысле?
— Не понимаете? Да? — Петр Петрович отодвинул дело и неожиданно согласился. — Ну, что ж… Это тоже ваше право — «не понимать…»
Сам же он изменился, напрягся.