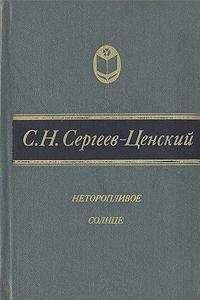Должно быть, именно оттого, что руки ее были еще влажны, молодая жена старого Сыромолотова, не подавая руки своей новой родне, просто обняла ее и поцеловала в губы, а следивший за нею Алексей Фомич весело подмигнул сыну и еще веселее проговорил:
— У Шопенгауэра в его «Афоризмах и максимах» есть такой афоризм: «Когда молодая женщина встретит на улице другую незнакомую ей молодую женщину, то они смотрят друг на друга, как гвельфы на гибеллинов», то есть очень враждебно. А посмотри ты, как встретились наши с тобой жены!
Это замечание Алексея Фомича совершенно ввело в себя Наталью Львовну, и она уже сама обняла Надю и с восхищением сказала ей:
— Какая же вы молоденькая! И какая хорошенькая! И совсем не гвельфами и гибеллинами, а большими друзьями мы с вами будем!
И тут же, точно по какому-то наитию, добавила:
— Покажите же мне картину свою, Алексей Фомич! Я так много слышала об этой картине от Вани!
— Вот! Это называется — с места в карьер! — как бы еще более развеселившись, обратился к сыну Сыромолотов. — И знаешь ли, мне показалось там, в церкви, около Семирадского, что она что-то понимает в живописи!
— Она понимает! — подтвердил Ваня, но лицо Сыромолотова посуровело вдруг и повернулось к окну, в которое он и проговорил как бы про себя:
— Что же смотреть картину, когда она запоздала появиться?.. Вчерашний день, вчерашний день!
Однако Надя, обняв Наталью Львовну за талию, как бы сама возбуждаясь ее любопытством, сказала радостно:
— Идемте, я покажу вам картину!
А Алексей Фомич вполголоса спросил сына:
— Как жена твоя, не двулична ли?
— Не замечал этого за нею, — подумал и вполне серьезно ответил Ваня.
— Ну, если так, пойдем, послушаем, что скажет. Первое впечатление — важно… Картина Семирадского ей нравилась, может быть понравится и моя тоже…
Наталья Львовна вошла в мастерскую Сыромолотова благоговейно. Это слово навертывалось ей и тогда, когда она подходила вместе с Ваней к дому Алексея Фомича, но вполне ясно представилось оно ей во всей своей глубине только теперь, когда, стоя в дверях, где поставила ее Надя, она бросила на картину первый взгляд. Оторваться от картины она уже не могла и не слышала, как подошли и стали сзади ее Ваня с отцом.
Она не просто смотрела, а как бы переселилась вся целиком туда, на площадь перед Зимним дворцом, где происходило нечто чрезвычайно огромное в жизни не этой вот только захваченной кистью художника толпы, а целого народа. Когда Ваня описывал ей картину отца, она из его слов представляла и часть дворца, и толпу в несколько десятков человек различных возрастов и обличья, и конный отряд полиции с величественным приставом во главе. Но Ваня не сказал ей того, что ярко вдруг блеснуло в ней самой: эти люди, пришедшие к дворцу, видели тут то, чего не могло быть изображено красками на холсте, но в то же время ярко ощущалось вот теперь ею.
Это ненаписанное и все-таки явно воплощенное было — Свобода! Свобода огромного народа, который занял за тысячелетие своей жизни огромнейшие пространства Земли и в то же время совсем не имел права распорядиться своею судьбою, а должен был, хотя бы и в явный вред себе, исполнять беспрекословно чужую волю, и вот до чего дошел в еще неоконченной войне. Она поняла так картину потому, что только накануне вырвалась на свободу сама; сквозь то, что в картине было приурочено к современности, она увидела вечное, то, что свершилось с нею самой, то, что может свершиться со всяким и где и когда угодно, то, что может и должно свершиться с любым народом, так как самое ценное, что есть в жизни каждого и всех, — это — свобода.
И когда ощущение великого, совершенно исключительного, что было вложено в картину художником, пронизало Наталью Львовну насквозь, она не в силах была вынести этого спокойно, — она обняла Надю и заплакала, прижав голову к ее щеке.
— Что ты? Что ты — Наташа? — обеспокоился Ваня и хотел было отнять ее руки от Нади, но Наталья Львовна еще сильнее, всем телом прижалась к ней.
— Голова, должно быть… Компресс надо… Поди воды принеси! — забормотал испуганно Алексей Фомич.
Тут же принесенная Ваней вода в стакане действительно помогла. А когда Надя усадила Наталью Львовну и, вытирая ее лицо платком, вздумала сделать ей выговор, как свекровь снохе:
— Разве можно быть такой нервной в наше время? — сноха поглядела благодарными глазами на свекровь и слабо улыбнулась ей.
А через минуту она встала и обратилась к свекру:
— Алексей Фомич! Вы мне разрешите поцеловать вас?
— Сделайте одолжение! — потянулся к ней Сыромолотов, и она поцеловала его в волосатую щеку по-детски и только после этого сказала восторженно:
— Это гениально, что вы сделали! Гениально, и это совсем не какая-то «демонстрация».
— Да, вы верно говорите, — согласился Алексей Фомич. — Это у меня не демонстрация — нет, — это своеобразный штурм Зимнего дворца, вот что! И охраняет дворец все тот же пристав Дерябин! Он не убит, нет, — полиция осталась вся на своем месте… На посту! Дерябин на своем посту, — вот что, а не то, чтобы убит. Не опоздал я со своей картиной, а совершенно напротив, — предупредил события, которые не-из-беж-ны! Иначе не может быть: у всех исторических событий железная логика. Это не только потому, что на них тратится много железа. Посчитайте-ка, сколько железа потрачено на эту войну и сколько мозга, и увидите, что мозга не меньше железа. Вот в силу этой самой логики я и выставляю свою картину, а назову ее… назову уж теперь не «Демонстрация», а… Тут нужно энергичное военное слово… Как бы? «Атака»? а? «Атака Зимнего дворца», или еще лучше — «Штурм» — да! «Штурм Зимнего дворца»! А еще короче и выразительнее — «Штурм власти», которая не на месте. Да! Которая должна быть обще-народной! Да, именно! Так я и сделаю! Не «Демонстрация», а «Штурм»!
Ваня с восхищением смотрел на отца, а когда тот кончил говорить, вдруг сообщил:
— Удивительное совпадение: примерно эти же слова говорил сейчас на митинге один юный большевик, который, между прочим, просил тебе кланяться… Да ты его знаешь — сын Ивана Васильевича Худолея.
— А-а-а? Вот как? — обрадованно протянул Алексей Фомич. — Интересно, какую ж он речь говорил, этот славный юноша?
— Он говорил, что власть по-прежнему держат в руках имущие классы, а не народ, — ответил Ваня, пытаясь наиболее полно припомнить содержание речи Коли Худолея. — Но скоро все переменится, поскольку произойдет новая революция, пролетарская.
— И что сделает ее Ленин, — подсказала Наталья Львовна.
— Да, именно Ленин, — немедленно согласился Алексей Фомич, что несколько удивило Ваню. А отец повторил с убежденностью: — Именно Ленин… Но ведь он где? — В эмиграции.
— Приехал! — поспешила первой сообщить Наталья Львовна.
— Уже?! Ленин приехал? В Россию?
— Да, в Петроград. Так Худолей сказал, — подтвердил Ваня.
— Ну вот… видите! — Алексей Фомич энергично заходил по комнате. — Видите!.. Он уже в Петрограде. Значит, там и начнется… новая революция… Теперь я знаю — моя картина нужна. Там, в Питере. Я ж говорил — не опоздала. Слышишь, Надя! В Петроград ехать! Не-мед-лен-но!.. Там помещение ей найдется. Там помогут. Вот они — путиловцы помогут. — Он указал кивком на фигуры рабочих, изображенных на картине. — Помнишь Ивана Семеновича, Катю? С Путиловского завода? — Вопрос относился к Наде. — Они наверно будут на баррикадах. Да уж, непременно. А где ж им быть, как не на баррикадах с Лениным во главе…
1958
I
В последнем классе земледельческого училища Алексей Шевардин проделывал гимнастику с пудовыми гирями, ходил упругой походкой с легким развальцем и, похлопывая себя по объемистой груди, самодовольно говорил: «Широ-окая кость!»
Целыми днями он возился в саду, в поле, в оранжерее, к урокам готовился ночью, спал без одеяла и аккуратно купался до первого льда.
Дед Никита, помогавший летом ученикам пускать плуги, жнейки, молотилки, а в остальное время состоявший в училище истопником, искренне любовался Шевардиным.
— Добытчик!.. Хлебороб! Истинное слово, хлебороб, — говорил проникновенно дед, корявый и темный снизу, светлый вверху, глядя на упрямую, круглую, как точеный шар, гладко стриженную голову Шевардина. — Богатеем будешь, — правду тебе истинную говорю… Настоящий мериканец!.. Знал я одного такого немца, — Идмуд Мартыныч звали, — вот деляга был, и-и-и, куды!.
— Зачем мне Америка, дед? — перебивал его Шевардин, по привычке вздергивая крупным, попорченным оспою носом. — Тут у нас своя Америка, своя земля людей ждет.
— Тесно у нас-то, внучек, вот что…
Глаза у деда были совсем ясные, детские, и, глядя в эти глаза, сквозь которые двумя острыми воронками прошла, не замутивши их, целая жизнь, Шевардин говорил громко и уверенно: