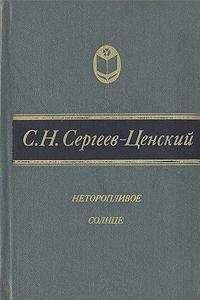— Позвольте, батюшка, а полиция?
— Полиция? — Отец Мефодий хмыкнул. — Полиция вся на графских лошадках ездит. Да и дела тут полиции чуть. Конечно, застали в лесу с поличным, нападение, самозащита, — знаете, как это делается? Одним словом, лексикон известный… Нет, вы скажите, как Аурас царствует? Все законы, и божеские и человеческие, попирает — цел и невредим… Вы думаете, на него мужики облавы не делали? Был такой грех, вышли из терпения, — ничего, ускользнул живехонек, а сам еще из этого бунт сделал. Мужиков же и секли… С черкесами тоже сражение было. Вот будете идти к Неижмакову, — это на том берегу село, — по дороге на просеке там кресты будут, деревянные кресты и камни. Там, знайте, Мамаево сражение было. Над православными, конечно, кресты, а камни над черкесами… Из-за баб дело вышло, черкесы баб обидели, ну, народ и осерчал… Восемь крестов там стоит, а камней или пять, или шесть, не помню; лет пять назад дело было.
Упорно глядя на рыжую шляпу грузного попа и на его медленно движущиеся губы, Шевардин чувствовал, что входящая в него обида тоже грузная, медленная и рыжая, как желчь. Она густо переливалась по его мышцам и напрягала их, как камни.
— Будете идти так, по этой стороне, — махнул вправо о. Мефодий, — там каменоломня будет: около нее графская псарня, в оной псарне двести штук одних борзых содержится; молочной овсянкой кормят, и коровы для них особые есть. Считайте, самое бедное, по пятачку в день на собаку, — десять рублей в день, триста в месяц, итого три тысячи шестьсот рублей одного собачьего содержания — четырех причтов доход, — шутка, а? (Отец Мефодий ударил Шевардина по колену.) Как приедет сюда граф со шлейфом, по целому быку в день съедают… Вот дворец-то графский, видите, на горе белеется? Можно сказать, замок, гнездо орлиное!
Всмотревшись, Шевардин увидел в лесу белый, с башнями по бокам, двухэтажный дом. К нему вела извилистая, серая среди темных сосен дорога.
— Послушайте, батюшка, что он из себя представляет, этот граф? — медленно спросил Шевардин.
— Как «что представляет»? Графа, — лукаво улыбнулся поп.
— То есть служит где-нибудь или так?
— Насчет службы не знаю, навряд ли, чтоб служил, за границей он больше витает… А может, какую-нибудь должность и имеет для видимости, не знаю, об этом не слыхал. Чего не знаю, того не скажу… А вот, если хотите, для иллюстрации, как говорится, был у нас недавно такой случай, прямо комедия в одном действии…
И длинно, с большими отклонениями, смехом и хлопаньем по колену Шевардина, о. Мефодий начал рассказывать, как графская экономия обманула крестьян из Неижмакова: обменяла песчаную косу на заливной луг с озером, обещая вместо придачи вечный попас в лесу и вечный хворост для топки; обещание было дано на словах, а об обмене земли составили акт и запили его водкой.
На другой же год застроили лужок дачами, а в попасе и хворосте отказали.
Уже три года судятся неижмаковцы, судятся упорно, с причитаниями и ссылками на Страшный суд и совесть, а экономия над ними смеется.
По мере того как говорил о. Мефодий, все больше темнело лицо Шевардина, и, безволосое, широкоскулое, оно было напряжено в каждой видимой точке, а о. Мефодий весело пыхал папироской, надувая щеки.
Ночью Шевардин видел странный сон. Будто сидел он над обрывом на реке возле сада. Сияла луна, и лес на берегу был черный и далекий, а вода серебрилась гладкими широкими полосами, изъеденными отражениями. И было страшно тихо и на земле и в воде, когда раздались вдруг короткие, частые всплески, точно кто-то бил вальком по воде, и вслед за этим посредине реки, высоко приподняв изжелта-зеленую воду, показалась тупая огромная рыбья голова, в полреки шириною, посмотрела в обе стороны на лес белесыми бычьими глазами и тяжело ухнула снова в воду.
И в берега от заходившей буграми воды ударились ревущие мутные волны, а по воде закружились подмытые ими с берега старые чаны, гнилые, зеленые от моха, — один, два, три… восемнадцать. Потом потонули чаны, на реке стало тихо, и Шевардин проснулся.
В голове его что-то больно стучало, звенели комары… Воздух был сырой от ночного тумана; из-за реки презрительно и злобно хохотал филин, и выли на селе собаки.
IV
Нужно было обобрать гусениц с деревьев: серыми шарами паутины окутали они китайку, анис, скороспелку; нужно было отпилить сухие сучья, мешавшие хозяйскому глазу Шевардина, нужно было подвязать слабые и низкие ветви, чтобы охранить их от полома во время июльских ветров.
Все это хотелось сделать скорее, и Шевардин решил нанять на селе поденщика.
Когда он рано утром пошел по улице, навстречу ему гнали волов в поле, и из-под них взвивалась тонкая желтая пыль.
С реки дул свежий ветер, и от этого ветра волы точно пробуждались на ходу. Все серые и рослые, как один, они останавливались, встряхивали длиннорогими головами и внимательно смотрели на шагавшего между ними Шевардина.
Где-то вдали подымался высокий журавль колодца; от реки по улице с двумя ведрами на коромысле шла некрасивая, долгоносая молодуха в мокрых чоботах, запачканных речным илом.
В стороне бросилось в глаза большое дворовое место, засеянное рожью. Рожь стояла, чуть-чуть сгибаясь, тонкая и желтая, а колосья ее странно двигались и были коричнево-черны от обсевшего их сплошь жука кузьки. Вид был такой, как будто этих жуков именно и желали видеть, и являлся игривый вопрос: не сеяли ли жуков вместо ржи?
Старик с бабой, ухватившись за длинную веревку, шли вдоль поля и хлопали по колосьям, и там, где они шли, выпрямлялись, жалобно качаясь, помятые изжеванные былинки, а позади их с земли снова подымались жуки и, недовольно жужжа, занимали прежние места.
Шевардин вспомнил, что дня три назад о. Мефодий за двадцать пять рублей служил молебен для избавления от гнуса.
Целый день ходили по полям, пели и кропили их святой водою.
Вечером пили водку, плясали и дрались. Жук остался.
У одной низенькой калитки стоял парень, босой, без картуза, с черными волосами в скобку.
— А что, хлопец, — подошел к нему Шевардин, — не пойдешь ко мне в сад на поденку?
Парень смотрел добродушными узкими глазами и чесал спину.
— А шо там робить? — спросил он после долгого молчания и отбросил кивком волосы со лба.
— Да что будет нужно, то и будешь работать… Работа легкая, — ответил Шевардин, сверху вниз глядя на парня.
— А шо вы даете? — недоверчиво спросил парень.
— Тридцать копеек дам.
— И то гроши, — презрительно качнул головою парень и снова потянулся чесать спину, лениво глядя вдоль улицы.
— Сколько ж ты хочешь?
— Сорок копиек даете? — хитро прищурился парень.
— Да, дам, пожалуй, и сорок, — чуть улыбнулся Шевардин, — только выходи сейчас, с пилой, если есть, и лестницу захвати.
Парень оглядел ботинки Шевардина, черные брюки, куртку с ясными пуговицами и зеленым кантом и отрицательно качнул головой.
— Ну? — спросил Шевардин.
— Нi, не хочу, — хмыкнул парень и, медленно повернувшись, пополз во двор.
Волы точно плыли по глубокой желтой пыли улицы, небольшими кучками — по два, по три.
Они смотрели большими ясными глазами из-под белых ресниц, и было видно, что понимали что-то простое и близкое.
Глубоко вросши в землю и полузакрывшись обвисшими серыми крышами, в два ряда стояли избы, точно большие черепахи, раздавленные сказочным конским копытом.
Трубы на избах были широкие, четырехгранные, из плетня, обмазанного глиной, и Шевардин подумал, что вот именно в такие трубы могли влетать и вылетать оборотни, ведьмы, огненные змеи.
И река, дымившаяся внизу, и седой бесконечный лес по сторонам, и цепные лохматые псы, хрипло лающие из-за скрипучих ворот, — все показалось очень знакомым из старых страшных сказок. Точно давным-давно, в незапамятное время, застыла тут жизнь и превратилась в камень, и нельзя было оглядеть широкой сети этих камней, замелькавших перед глазами.
С одного двора рябая девка в красном платочке выгоняла пару волов вдогонку стаду.
Шевардин подошел к ней.
— Слышишь, девка! В сад ко мне на поденку пойдешь?
— У сад? У попивский? — спросила девка.
— Ну да, в поповский.
— Чего ж не пийты, — можно пийты. А ще кого берете?
— Да больше мне не нужно, одной довольно.
— Эге… так мини нельзя, — заулыбалась девка, отходя в сторону.
— Почему нельзя? — не понял Шевардин.
— Та так… Може, вы и ничого, так люди осудят, проходу не дадуть.
По рябому круглому лицу девки ползала не то виноватая, не то стыдливая улыбка, желваками выступая то около губ, то в углах глаз, а серые волы мотали перед ней длинными грязными хвостами.
В конце села указали Шевардину пришлого садовника Игната, жившего здесь на квартире у бобылки старухи.
Старуха была согнута, как конская челюсть, с черными руками, с детскими глазами на рубцеватом выжитом лице, с седенькими косичками, выбившимися сзади из-под повойника.