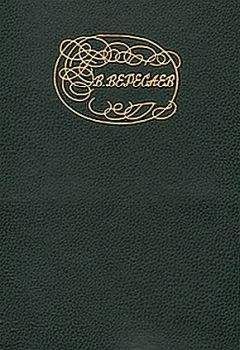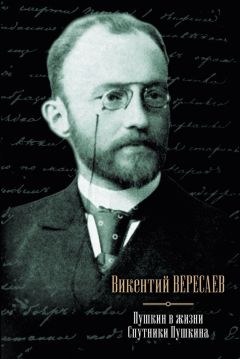Пушкин шагнул дальше. Жизнь человека в молодости, зрелости, даже старости (хотя Пушкин физически не дожил до нее) получила благодаря его поэзии впервые точное художественное воплощение в русском слове.
Смешно и нелепо опровергать эту жизнь какими-то биографическими несовпадениями. Она выше этих частных фактов. У прозаической жизни певца свое место. Для Байрона – это отдельный том, «Жизнь поэта», входящий в собрание его сочинений наравне с лирикой и поэмами. Для Пушкина – особая стихия, часть целого, сплетенного из стихов и поступков, событий частных и исторических, поэм и их восприятия современниками. Поэтому кропотливое изучение биографических деталей, тщательное установление маршрутов путешествий, дат, местностей и зданий, людей, с которыми встречался и даже только мог встречаться поэт, в пушкинском случае не есть чрезмерность увлеченности или какой-то странный перекос в отношении изучения биографии поэта. Все эти детали накрепко связаны с его поэзией, это ее часть, подобная по-своему его стихам. И все пушкинское время, не случайно названное так, имеет прямую связь с его творчеством, вбирается им и, освещая его изнутри, освящается им.
Вот почему проблема биографии поэта встает в совершенно новом значении: это картина эпохи. И здесь особенно важно услышать разные голоса – актера и дипломата, военного и крестьянина, светской дамы и дочери деревенского попа. Более того, она допускает даже использование не вполне доброкачественного материала. «Отвергая явно недостоверное, не следует пренебрегать неточным и сомнительным, памятуя, что взгляд современника всегда субъективен, что бесстрастного рассказа о виденных событиях и лицах не существует, что вместе с фактом в воспоминания неизбежно попадает отношение к факту и что самое это отношение есть драгоценный исторический материал»[8], – пишет современный историк-пушкинист.
Казалось бы, простая, очевидная мысль, положенная в основу монтажа Вересаева, имела долгую предысторию, ее нащупывали и искали больше ста лет. Современникам Пушкина и Байрона распространенные тогда жизнеописания поэтов, во многом подобные литературным мистификациям – подделкам «народных преданий» или таинственно-скрытым «авторствам», – казались не подлежащими разоблачению. В них была своя долговечность, прочность, недоступная никакому документальному опровержению. Ведь в них содержался образ, а стало быть, действительно содержалась истина, по крайней мере, в романтическом смысле: цельно схваченная суть творческой личности. Образ этот создавался в общем представлении самим поэтом в процессе особого жизнетворчества, образ фиксировался литературными душеприказчиками. Не надо думать, что он был плодом чистого вымысла. Тут власть вымысла, идеи проявлялась в том, что сама жизнь должна была ей подчиниться, воплотиться в заданную ею форму. Такое приведение жизненной практики в соответствие с поэтической теорией было необычайно опасным, рискованным, требовало выдержки, мужества.
Принцип романтической биографии как соответствия признанному образу держался долго. Затем биографии стали создаваться, напротив, на основе критической проверки фактов. Это не означает, конечно, будто раньше и фактов не проверяли, но важен принцип, цель. Так, Анненков, взявший у романтиков только форму, но работавший уже не в романтическую эпоху, нарушал сложившийся образ Пушкина в очень большой мере. Нарушение ведь необязательно должно сводиться к какому-то нелицеприятному разоблачению. Напротив, поэт может быть возвышен, как и получилось у Анненкова. Но важен опять-таки самый принцип: думали о поэте одно, читали совсем другое… Ходячие представления о личности Пушкина сводились, в общем, к тому, что это был «гуляка праздный», только поэт, птица певчая. На страницах книги Анненкова развертывались труды и дни литературного труженика, человека государственного ума, философских наклонностей, историка-исследователя… Если при разборе пушкинских бумаг современники, наиболее близкие, могли удивляться: «Пушкин – мыслитель, кто бы мог подумать!», то книга Анненкова, написанная на основе тех самых бумаг, делала это представление, совершенно новое, широким достоянием.
В начале нашего века на Западе стали появляться одна за другой своеобразные антибиографии, сугубо направленные против каких бы то ни было привычных представлений о выдающихся личностях. В результате, конечно, какие-то застарелые легенды и мифы окончательно развеялись. Но ведь сами эти книги были тоже мифы, легенды навыворот – по сравнению с «засахаренным ангелом», другая крайность, тоже неправда. Позднее, в процессе диалектического «снятия» противоположных крайностей, биографии попробовали сделать исключительно документальными. И превратились они, по выражению Бернарда Шоу, в подобие адресно-справочной книги, где цельного образа, понятно, не найти, но зато имеется полный, прямо алфавитный свод сведений, вся подноготная, в том числе «счета за стирку», что когда-то были камнем преткновения и для почитателей, и для ниспровергателей. И вот все на виду, а личность, привлекавшую мир, увидеть как-то не удается! Что же делать? И только теперь соотечественники Байрона, начавшие еще при его жизни записывать разговоры и составлять о нем записки, пришли к идее монтажа, подобного вересаевскому. Такие же антологии известны ныне итальянским и немецким читателям о своих поэтах. Идея, подсказанная в пушкинском случае совершенно особенным соотношением жизни поэта и эпохи, в которую он жил, принципиальным включением в его биографию почти всего содержания текущего момента с его индивидуальными отголосками в различных людях, в его собственной судьбе, оказалась чрезвычайно плодотворной.
Итак, принцип монтажа. Говорит эпоха, говорит множество разноречивых голосов, но, поскольку говорят они об одном и том же человеке, облик его четко прорисовывается. Вересаев взял на себя задачу, казалось бы, скромную, подготовительную, разведывательную. За неимением связной биографии, в которой бы известная нам сумма фактов была бы сфокусирована, придется предложить подборку, мозаику сведений, согласующихся и спорящих между собой. Такова исходная посылка. И Вересаев проделал колоссальную работу по собиранию и систематизации свидетельств современников и документов. Идею сформулировал еще Гете, который сказал, что поэт творит много книг, создавая одну – книгу своей жизни. И Вересаев называет свой труд – «Пушкин в жизни».
Дело не только в объеме проделанного труда. Вересаев проявил интуицию искателя-исследователя и чутье художника. Скажем, какие сведения о Пушкине можно найти в письмах И. С. Аксакова? Это человек другого поколения, Пушкина он не знал. Действительно, ничего о Пушкине в его письмах мы не найдем, а Вересаев нашел. Правда, найденное им характеризует не самого Пушкина, а его близкую знакомую А. О. Смирнову-Россет, но в таких резких, отчетливых тонах, что получается характеристика не одной Смирновой, но самого стиля жизни высшего слоя петербургского общества, в котором поэт принужден был находиться в последние годы жизни.
В этой книге, благодаря искусству собирателя, для нас сохранено немало ярких черт, выбранных с любовью и пониманием из бесчисленного множества сообщений и публикаций о Пушкине и его времени. Сохранено, потому что богатый материал был бы иначе недоступен в наши дни во всей полноте не только читателю, интересующемуся Пушкиным, но и специалисту. И расположен этот материал, при строгой хронологии, с таким блеском остросюжетного повествования, что от книги невозможно оторваться: играя на сплетениях и противоречиях документов, Вересаев создал очень плотную повествовательную ткань, такой редко удается достичь и в авторской прозе. «Пушкин в жизни» был первой попыткой заменить биографию документальным романом. Цель такой замены заключалась не в увлекательности самой по себе, потому, дескать, что читать интереснее! Конечно, что интересно читается – это хорошо и важно, но все же не в этом главное. «Поэзия – правда» – принцип, разделяемый самим Пушкиным. В ту эпоху это было всесторонне обдумано – исключительная истинность художественного образа, запечатлевающего живое явление. Продуктивно работает мысль историка, глубоко проникает в материал, в суть явления, в характер исторического деятеля, но вот та же самая фигура или то же событие возникают под пером художника, и сразу же неисчислимые и неуловимые оттенки проступают перед нами. Неисчислимые и неуловимые, они, однако, собраны, сконцентрированы в образе. Вересаев не пишет портрет Пушкина сам, он делает это как бы чужими руками, сам же он проводит очень умело художественный принцип контраста, разноречия, при этом все скрепляется, связывается единой мыслью о Пушкине – великом поэте.
Когда книга Вересаева вышла, то, судя по рецензиям, она не устраивала критиков, потому что не укладывалась в односторонние концепции пушкинского творчества. В отличие от схем, то была живая книга – о живом Пушкине. Вересаев создал редкостный эффект присутствия великой личности. А не повредит ли подобный эффект великой личности и надо ли нам с ней знакомиться столь непосредственно? Необходимо отметить, что сам Вересаев не без колебаний отвечал на подобный вопрос. Вернее, позиция у него была определенная, однако она предусматривала колебания во взгляде на Пушкина, раздвоение в представлениях о нем как о человеке и как о художнике, творце. «Подлинно великий человек с честью выдержит самые «интимные» сообщения о себе. А не выдержит, – и не надо»[9]. Книга же, в особенности теперь, когда мы знаем о Пушкине и его окружении еще больше, производит впечатление другое, удивительно цельное, хотя и не простое, но цельность и простота ведь не одно и то же! С течением времени становится видно все отчетливее, что так называемая «вся правда» о Пушкине только очищает, возвеличивает его облик. Главное – сам склад личности. Есть выдающиеся люди, общественный облик которых сохраняется лишь в ореоле «возвышающего обмана». Но к знаменитостям такого рода Пушкин не принадлежал. Его житейский облик, в отличие от Байрона, был не завышен, а занижен в глазах даже самого непосредственного окружения. Что уж говорить о «светской черни», если даже некоторые близкие друзья поэта открывают для себя Пушкина по-настоящему только после его смерти. С годами, по мере того как накапливались сведения, монтировался коллективный пушкинский портрет, высказывался о нем голос эпохи, выше становилась его чисто человеческая репутация. Конечно, есть личности, яркие личности, которым разоблачения или саморазоблачения могут принести непоправимый вред. Это люди в самом деле раздвоенные: занимаясь пустяками, они, как Наполеон в изображении Толстого, делают вид, будто решают задачи мировой важности. Пушкин, если уж на то пошло, садясь за карточный стол, не изображал из себя стратега или философа. Строй пушкинской личности замечателен тем, что невозможно запятнать такую личность – человека, который не затаил, а во всеуслышанье сказал, что бывает подчас «ничтожней всех ничтожных»… Стыдясь самого себя, Пушкин тем не менее «строк печальных» не смывает в своей памяти. «…В этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь», – способность сознаться в собственной глупости, когда совершена, соответственно, глупость, признать, что вел себя опрометчиво или легкомысленно, когда поведение было опрометчивым и легкомысленным, не смывать этих строк из памяти и вместе с тем твердо стоять в вопросах принципа и чести, одним словом, полнота самосознания – вот что отличает Пушкина и делает его совершенно неуязвимым для «разоблачений»[10].