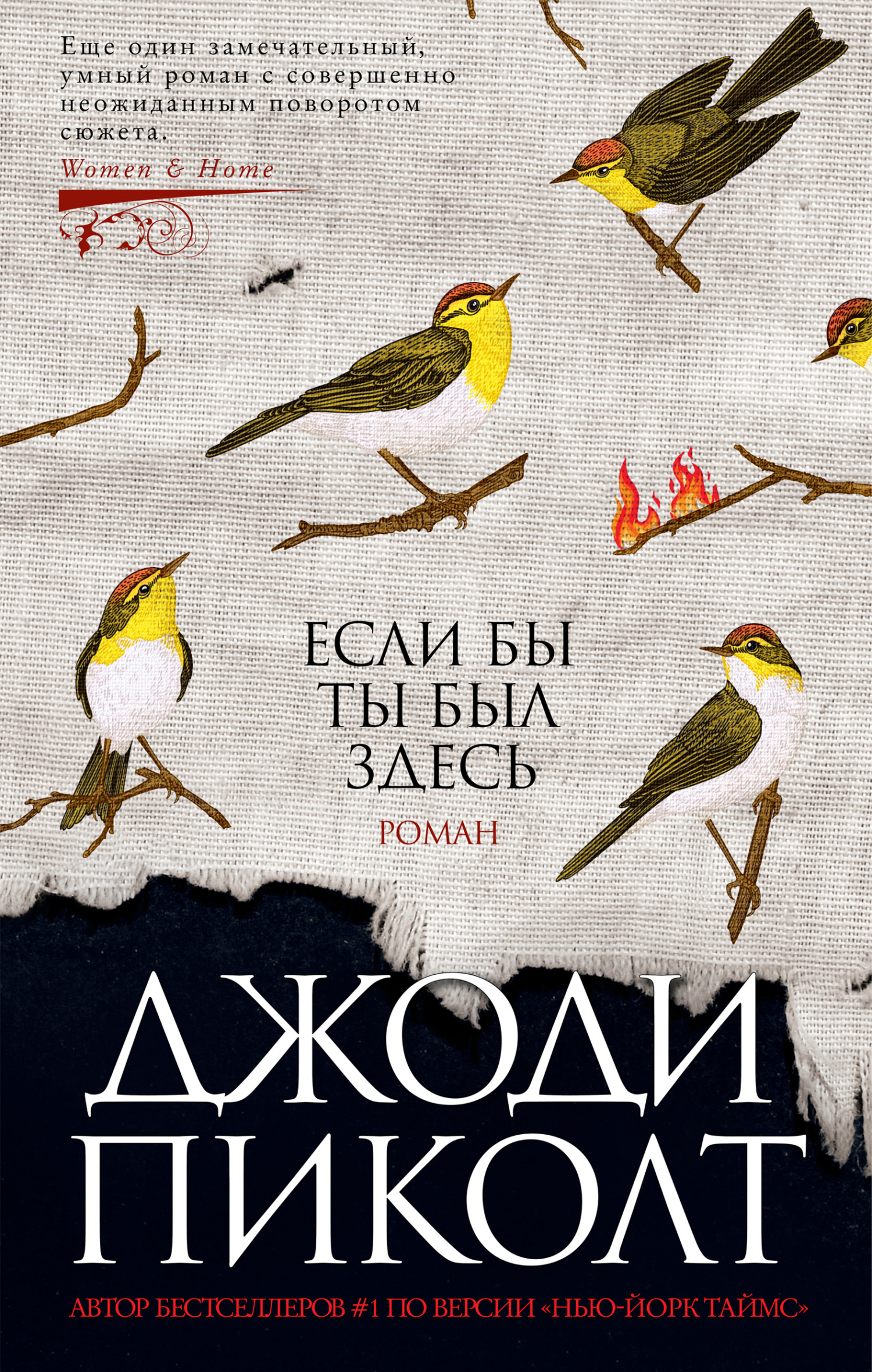всякий след – это искусство, – бормочет она.
Я останавливаюсь.
– Беатрис… – начинаю я.
– Иногда я забываю, как она выглядит. Моя мать, – перебивает меня Беатрис.
– Я уверена, что твой отец мог бы…
– Я и не хочу о ней вспоминать. Но потом я думаю… – Она переходит на шепот. – Я думаю, что, быть может, меня тоже очень легко забыть.
Я беру ее за руку и осторожно приподнимаю рукав. Вместе мы смотрим на дорожку из шрамов, одна часть которых со временем померкла, а другая – по-прежнему остается сердито-красной.
– Так вот почему ты режешь себя? – тихо спрашиваю я.
Я жду, что она вот-вот отстранится и замкнется в себе, но вдруг Беатрис начинает говорить, быстро и тихо:
– Наверное, в первый раз я порезала себя именно из-за этого. Но потом… На какое-то время я перестала это делать. В школе было легче переключиться на что-то другое. А прямо перед тем, как вернуться сюда… – Она качает головой и на время замолкает. – Почему именно тех, кто даже не замечает твоего существования, ты не можешь выкинуть из головы?
– Когда я была маленькой, мамы вечно не было дома. Раньше я даже думала, что ее многочисленные командировки – на самом деле попытки сбежать от меня.
Я чувствую, словно кто-то проткнул наполненный гневом воздушный шар у меня внутри. Слова вылетают из меня, словно воздух из маленькой дырочки. Я не помню, чтобы говорила кому-нибудь нечто подобное. Даже Финну.
Беатрис смотрит на меня так, словно я за секунду изменилась до неузнаваемости.
– Она сбежала к фотографу из «Нэшнл джиографик»? – сухо спрашивает она.
– Нет. Просто решила, что все в мире – буквально все – важнее меня. А теперь у нее деменция, и она понятия не имеет, кто я такая.
– Это… отстой.
– Это данность. – Я пожимаю плечами. – Если кто-то бросил тебя, то это больше говорит о нем, чем о тебе.
Впереди из выжженной земли внезапно вырастает стена, и я замолкаю. Она сделана из вулканической породы и возвышается над нами на добрых шестьдесят футов. Стена такая длинная, что я не вижу, где она кончается. Я понимаю, что она, по сути, ничего не ограждает.
– Заключенные строили ее в сороковые и пятидесятые годы прошлого века, – поясняет Беатрис. – Это была совершенно бессмысленная работа, своего рода наказание. Многие заключенные погибли во время строительства.
– Какая мрачная история, – бормочу я.
Стены возводят, как правило, по двум причинам. Чтобы сдержать тех, кого вы боитесь, и чтобы сберечь тех, кого вы любите.
Однако в любом случае вы возводите некий барьер.
– К ним приходил только один корабль в год с различного рода припасами. Заключенные и их охранники умирали с голоду. Чтобы выжить, они охотились на сухопутных черепах. Ходят слухи, что тут полно призраков и можно слышать, как они плачут по ночам, – говорит Беатрис. – Жутко до чертиков!
Я подхожу ближе. Двигаясь вдоль стены, я замечаю выгравированные на ней символы, буквы, даты, узоры, простые засечки.
Если определять искусство как нечто рукотворное, заставляющее нас помнить о его создателях после их смерти, то эта стена определенно является произведением искусства. Тот факт, что она незакончена или полуразрушена, не делает ее менее поразительной.
Внезапно телефон начинает вибрировать у меня в кармане, и я подпрыгиваю от удивления. Давненько мне никто не звонил. Я вытаскиваю его и чуть не вскрикиваю, когда вижу на экране имя Финна.
– Боже мой! – отвечаю я. – Неужели это ты? Неужели это в самом деле ты?!
– Диана! Не могу поверить, что наконец удалось до тебя дозвониться. – Его голос перемежается помехами, но звучит так до боли знакомо. Слезы наворачиваются мне на глаза. Я изо всех сил пытаюсь расслышать его слова. – Скажи… и каждый… тебе… это было.
Я слышу только половину из того, что он говорит, поэтому, крепко прижав телефон к уху, продолжаю двигаться вдоль стены в надежде поймать сигнал получше.
– Финн, ты меня слышишь? – спрашиваю я.
– Да, да, – отвечает он, и я слышу, с каким облегчением Финн это произносит. – Господи, как же приятно наконец поговорить с тобой!
– Я получила твои электронные письма…
– Я не думал, что они до тебя…
– Связь здесь просто ужасная. Я отправила тебе несколько открыток.
– Я пока еще ничего не получил. Не могу поверить, что на острове нет Интернета.
– Ага. – Это совсем не то, о чем я хочу с ним поговорить, но боюсь, что появившаяся из ниоткуда связь вот-вот снова пропадет. – Как ты там? Кажется, что ты…
– Не могу тебе этого описать, Ди, – отвечает он. – Какой-то замкнутый круг.
– Но хотя бы с тобой все в порядке, – заявляю я несколько безапелляционно.
– Пока да, – говорит Финн. – Я читал, что Гуаякилю сильно досталось. Они складывают тела на улицах.
У меня сводит живот от ужаса.
– Я не видела на острове ни одного больного, – заверяю я его. – Все носят маски, у нас введен комендантский час.
– Хотелось бы, чтобы и у нас было так же, – вздыхает Финн. – Мне кажется, что целыми днями я только и делаю, что ношу мешки с песком для борьбы с водной стихией, но потом выхожу на улицу и понимаю, что это гребаное цунами, и у нас нет ни единого шанса. – Его голос вновь прерывается.
Я смотрю на кудрявые облака в небе, отражение солнца в океане. Словно картинка с открытки. Всего в нескольких сотнях миль отсюда вирус убивает людей так быстро, что тела некуда складывать, но с того места, где я стою, об этом вы бы никогда не узнали. Я думаю о пустых полках в продуктовом магазине, о людях вроде Габриэля, выращивающих себе еду в высокогорье, о рыбаках, которым приходится возить почту на материк, о туризме, который в одночасье прекратился. Быть отрезанным от внешнего мира – одновременно и проклятие, и благословение островитян.
Голос Финна вновь прерывают помехи.
– Беременные женщины… роды один… отделение реанимации и интенсивной терапии… часы приема… умрут в течение часа.
– Тебя плохо слышно, Финн…
– Ничего не меняется и…
– Финн?
– …все мертвы. – Внезапно последние слова слышны четко и ясно. – А когда я наконец прихожу домой, то тебя там нет, и я словно получаю очередную пощечину. Ты не представляешь, как тяжело сейчас быть одному.
Я отлично это представляю.
– Но ведь ты сам велел мне поехать, – тихо говорю я.
Повисает пауза.
– Да, – отвечает Финн. – Наверное, я надеялся… что ты меня не послушаешь.
«Тогда ты должен был так и сказать, – думаю я со злостью, но мои глаза наполняются слезами; я чувствую вину, разочарование, гнев. – Я не умею читать мысли».