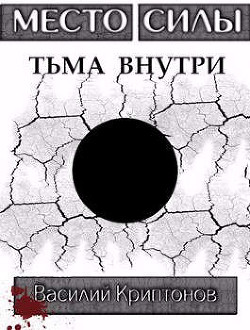вежливо отказался я.
Чуклаев шагнул через ступеньку, чуть не упал — выставил вперед руки, чертыхнулся. Но тут же овладел собой, нашептывая мне:
— Проходи, проходи, гостек дорогой!
Едва за нами захлопнулась дверь, над просторным запечком зашевелилась пестрая ситцевая занавеска. Раздвинулись ее половинки, и показалось худое, бледное, сморщенное, как печеная картошка, лицо женщины.
— Лежи, лежи. — Чуклаев на ходу задернул занавеску, извиняющимся голосом сказал мне: — Третий год старуха моя с печи не слезает. Теперь вот и с головой ей худо.
В поселке ходил слух, что прибил когда-то Чуклаев свою жену спьяну. С тех пор и лежит она в богатом доме, не видя белого света, а по хозяйству управляется жена племяша, которого носит где-то по белому свету. Одни говорили, что, приревновав молодую жену к дядьке, завербовался парень, другие — что схлопотал тот в дальних краях срок и отсиживает.
Расположившись в саду за мольбертом, я не раз чувствовал, что кто-то наблюдает за мной из-за высокого забора — думалось, она это, молодайка. Но видел я ее только издали, чаще всего возвращавшуюся с Петром Лукичем с базара, завязанную по брови в глухой серый платок, в длинном бесформенном платье, пыльных ботинках, с тяжелыми корзинами в обеих руках.
Мы прошли в большую светлую комнату с богатым резным буфетом у одной стены и круглым столом с четырьмя стульями — у другой. На недавно промытом, выскобленном полу — фабричной работы ковровая дорожка. В углу — разросшийся, в голубой крашеной кадке фикус с влажно блестевшими, тоже, видать, недавно протертыми, листьями.
Петр Лукич постучал в глухую стенку жестким крючком прокуренного пальца. В двери показалась молодая женщина в мордовском нарядном сарафане, с яркими бусами на груди. Лицо ее, с большими, подернутыми усталостью серыми глазами, показалось мне бледным, изможденным.
— Антонина!
Женщина бросила на меня короткий удивленный взгляд, — так смотрят, когда не ожидают увидеть человека и вдруг он перед глазами, — на ее бескровных губах едва удержалось готовое спорхнуть приветствие. Но уже через мгновенье взгляд ее остыл и губы поджались, как от испуга. И вот она уже скучно и покорно глядит на Чуклаева.
— Что, Петр Лукич?
— Не сообразишь? — осклабился тот. — Спроворь-ка, нам, дорогуша, чего-нибудь на стол. Гость наш торопится, на минуточку заглянул…
— Сейчас я.
Он заговорщически подмигнул мне и вышел.
Женщина, перегибаясь над столом тонким станом, быстро поставила две мелкие тарелки, вилки, ножи, две хрустальные рюмки. Прижимая к груди буханку, нарезала хлеба.
— Чисто у вас, — уронил я словно про себя. Но, кинув на дверь быстрый взгляд, она откликнулась:
— Чисто не там, где метут, а где не сорят.
— Ну уж, не скажите! У хорошей хозяйки сор не залежится…
— Детей нет в доме — откуда ж сору-то быть? Мой-то мальчонка сюда только спать приходит…
«Какую ж, однако, пустяковину я ей говорю», — корил я себя запоздало. Сразила меня и меткость и немногословность ее. Действительно, откуда ж быть сору в доме, если дом без детей? Больная хозяйка с печи не слазит, а Чуклаев, видно, в поисках лишнего рубля с ног сбился. Ее мальчонка? Не тихий ли молчун Колян из пятого «В» ее сын? То-то видел я его несколько раз около чуклаевского забора. Одного, без товарищей.
Почувствовал я в словах Антонины и откровенную тоску. А может, и показалось мне это, почудилось, потому что у самого последнее время душа не на месте — увижу чужих ребятишек, заговорят о детях — душу мне выворачивает. Не было у нас с женой детей, а решиться взять малыша из детдома никак не могли — оба на работе, кто за ним присмотрит? Школа, ее неугомонные обитатели, заботы о них — искренних, привязчивых, легковерных — поглощали нас целиком. Но иногда, как сейчас вот, сердце колола неведомая обида. Ну почему нам так не повезло в жизни!
Пока я предавался своим грустным размышлениям, женщина неслышно выскользнула из комнаты и вернулась с подносом, уставленным тарелками с закуской. Тут и аккуратно нарезанные помидоры, огурцы, зыбко вздрагивал холодец.
Вошел хозяин с запотевшей бутылкой водки в руках и притворно изумился, глянув на стол:
— Ай спасибочки, Антонина батьковна! Не задержала!.. А где же груздочки, дорогуша? Где же они, ядрененькие? И сальца, сальца отрежь… И чего же только две рюмки поставила? Я уж гостям сказал — идут, в сенцах руки споласкивают…
— Рабочим, что ли? — удивилась Тоня.
— Рабочим? Подымай выше! Покупателям!
Петр Лукич жестом истинного хлебосола пригласил меня к столу.
— Иван Аркадьевич, садись, садись, дорогой! Чем богаты, тем и рады. Эх, жаль, первая соседская рюмашка у нас случается, сразу и последняя.
С тарелкой груздей и куском розового сала вернулась Тоня. Петр Лукич засуетился, начал резать сало. То ли резал он так неловко, неумело, то ли руки у него дрожали от чего-то, но молочно-белые, с розовыми прожилками ломти сваливались с деревянного кружка. Да и другие тарелки вздрагивали беспокойно, того и гляди свалятся со стола.
— Пусти-ка, Лукич! — Тоня легонько оттеснила его от стола и взяла сало. Нож заходил около самых пальцев левой руки, которыми она придерживала шмат, быстро, так что и говорить было боязно, как бы не порезалась. Но вот аккуратные, ровные ломтики веером легли на тарелку, и я со вздохом облегчения обратился к хозяину:
— Чего же, Петр Лукич, последняя-то?
Чуклаев не успел ответить: на веранде затопали сапогами, загремели краном рукомойника, и он кинулся гостям навстречу:
— Проходите, проходите!
Вскоре мужчины, которых я принял за рабочих, по очереди взглядывая на Тоню, разместились за столом. Чуклаев наполнил рюмки и приглашающе поднял свою.
— Ну, за ваше здоровье, дорогие гостюшки!
Кряжистый проворно ухватил рюмку, показавшуюся маленькой в его широкой, с толстыми и короткими пальцами ладони.
Высокий же не торопился брать угощение.
— А женщин чего же, Лукич, обходишь? Непорядок.
— Женщин? — удивился Чуклаев. — Жена третий год ничего, кроме кипяченого молочка, не потребляет. Где уж ей пить водку?
— А молодая?
Высокий выразительно повел рыжим прелым чубом в сторону Тони, остановившейся у серванта.
— Правда, — запоздало присоединился к высокому и я. — Без женщин стол не стол, угощенье не угощенье.
Тоня благодарно обернулась, и лицо ее залилось таким девическим румянцем, что нам даже неловко стало, словно мы предложили ей что-то стыдное.
— Спасибо! — взмахнула она густыми ресницами. — Пейте сами на здоровье! Не пью я.
— Это с каких же пор? — повысил Чуклаев голос. — Неси рюмку и стул. Садись — не ломайся.
— Не пью я, — повторила Тоня. — Плохо мне с нее, с водки!
— А кому с нее хорошо? — хохотнул кряжистый. — Моя бы