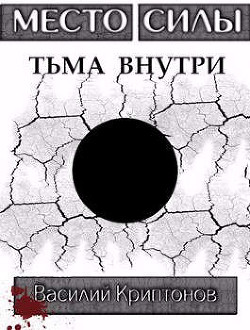воля — век бы не пил…
— А не угощали б, так и забыл бы, как она пахнет, так? — поддакнул Чуклаев и снова обернулся к Тоне: — И я попрошу тебя, Антонина, не будешь?
Голос его звучал просяще, заискивающе, но глаза смотрели сурово и требовательно.
Тоня присела к столу, глядя исподлобья на меня, словно коря за это ненужное ей приглашение.
— И что у тебя за посуда, Лукич? — отставил высокий рюмку. — Отродясь не пил я такими наперстками. Водки жалеешь, так и скажи… Или цену я тебе плохую даю?
— Что ты? Что ты, Андреич? Найди, Антонина, всем стаканы! И водку из буфета тащи!
Тоня поднялась молча и через минуту появилась снова — со стаканами и двумя бутылками водки на подносе. Она безучастно поставила все это на стол и снова с немой укоризной взглянула на меня.
Ее появление с бутылками кряжистый встретил восторженно. Чтоб не переливать водку, он уже опрокинул содержимое рюмки в рот и теперь по-хозяйски срывал с бутылок плотные нашлепки.
— Вот это еще куда ни шло! А то дом торгуют, а поставили наперстки.
— Какой дом? — вдруг встрепенулась Тоня.
— Какой-какой! — передразнил кряжистый. — Этот, красавица.
— Как этот? — ахнула женщина. — Петр Лукич!
— Что, Петр Лукич! Не ослышалась. Этот! Так что, Тонька, может, последний раз пьем здесь, — вроде посерев сразу и осунувшись, подтвердил Чуклаев. — Продаю Андреичу свои хоромы и уезжаю…
Хозяин и гости дружно чокнулись, нацепив на вилку кто помидор, кто огурец, выпили, шумно задышали. Я пригубил рюмку и смотрел за Тоней, горестно поникшей и безразличной ко всему происходящему.
— Пробуйте, гостеньки, груздочки — сам солил! — похваливал Чуклаев угощенье. — Антонина, глянь-ка, чего там у нас еще найдется закусить. Ветчинки пошарь.
Женщина водила пальцем по столу, катая хлебную крошку. На лице ее проступила бледность.
Гости подняли стаканы во второй раз, а она так и не двинулась с места.
— Антонина! — в голосе Чуклаева проступило раздражение. — Ты, голубушка, не заснула? На столе же пусто!
— Да брось, Петр Лукич! — запротестовали гости. — Не надо ничего.
Чуклаев еще больше закуражился.
— Или в этом доме убудет? Тащи, Антонина!
Тоня встала, усталая, безразличная, прошла на кухню.
Чуклаев, проводив ее ревнивым взглядом, подвинулся поближе ко мне, положил на плечо руку.
— Зачем я тебя позвал, сосед дорогой?
Он мог теперь и не говорить мне этого, я и сам сообразил, тем более что тот, кого Чуклаев назвал Андреевичем, хрустя огурцом, заявил по-хозяйски твердо:
— Не тороплю, Лукич, но к воскресенью хорошо бы дом освободить. У нас, знаешь, с машинами туго, второй раз не сразу выпросишь…
— Как скажешь, Андреич, — покорно согласился Чуклаев. — К воскресенью так к воскресенью.
— На постой, что ли, просишься, Петр Лукич? — спросил я.
— Не за себя хлопочу. За Антонину с пацаном.
— Они сами-то как?
— А что они? На улице небось хуже. А я тебе, соседушка, за это шиферу по дешевке…
Я не заметил, когда вошла Тоня. Губы ее дрожали.
— Как же так, Петр Лукич, продаешь дом, а мне ни слова? Куда я с дитем?
С безвольно опущенными руками она стояла возле окна. Догорал закат. Жаркие блики его отражались в стекле, и слезы, медленно бежавшие по щекам женщины, казались каплями крови.
— Если вы, Тоня, не против, переезжайте к нам, — выдохнул я.
Тоня взглянула на меня, и в лице ее отразилась не столько благодарность, сколько растерянность.
А Чуклаев обрадовался такому исходу:
— Ну что ты за человек золотой, Иван Аркадьевич! Думал, как буду просить тебя приют для Антонины с пацаненком дать? У тебя ж не ахти какие хоромы. Ан ты сам опередил! — заглядывал он заискивающе мне в глаза, суетился, подливал водки в стакан. — Хочешь, я тебе за это шиферу на крышу продам?
Это бы, конечно, неплохо прикупить у соседа немного шифера на крышу: с углов промокает моя старая хатенка. Но брать что-либо у этого человека мне никак не хотелось. Чем восстановил он против себя, убей бог, не знаю. Но не хочу, не могу принять от него благодеяния. Даже в такой форме, за свои кровные денежки не могу.
— А что? — кипятился Чуклаев. — Дранка — вещь пустая, недолговечная. Шифер понадежнее будет и покрасивше.
«А может, взять все-таки? — думалось. — Под боком же. Ни с перевозкой не мучиться, по заказам не бегать, в очередях не стоять…»
На счастье, прислушался к разговору товарищ Андреича, сердито отодвинул тарелку с капустой.
— Это как же, Лукич, понимать прикажешь? Сулил шифер мне, а теперь на сторону спускаешь?
— Э-э, — махнул рукой Чуклаев. — Зря, Гаврила, шумишь! Ему, думаешь, много надо? Весь двор-то с заячье гнездо! А уж крыша…
— Экий ты! — не успокоился Гаврила. — Спустишь ты соседу своему десяток-другой листов, а мне вдруг их как раз и не хватит… Из-за десяти листов в город ехать? Я, брат, люблю все с запасом. Запас есть не просит…
— Да куда тебе его весь? Там на два дома!
— Это уж, Лукич, не твоя печаль.
— Из-за десятка-то листов сколько шуму?! Да и шифер-то мой пока, закладу с тебя, Гаврила, я вроде не брал…
— Уговор дороже денег, Лукич, — хмуро изрек и Андреич.
Тогда я возмутился:
— Да не надо мне ничего! Успокойтесь! Не надо мне никакого шифера. И вообще… если хотите знать, — вырвалось у меня против воли, — я железом решил крышу крыть.
— Железом? — поднял брови Чуклаев. — Деньжата завелись? Так, может, мне не Андреичу, а тебе по-соседски дом-то уступить, а?
— Что ему в ём волков морозить? — ухмыльнулся успокоенный Гаврила. — Один с бабой живет, да и то целый день в школе пропадает…
— А с чего вы, Петр Лукич, надумали дом-то продавать? — спросил я.
Чуклаев чокнулся своим стаканом со стаканами гостей, осторожно притронулся к моему, не дожидаясь никого, выпил, захрустел огурцом. Потом вытер рот рукавом, вставая из-за стола, поманил меня за собой.
Тенью скользнула мимо нас в небольшую комнату рядом с просторной горницей Тоня. Она с трудом сдерживала слезы.
— Будет, будет мокропогодить! — сердито цыкнул на нее Чуклаев. — Сказал же Иван Аркадьевич, возьмет пока к себе.
Тоня не ответила, прикрыв за собой скрипнувшую дверь.
— Вот лучше петли смажь, чем сырость разводить! — добавил Петр Лукич. Он остановился перед дверью, что была с Тониной комнаткой рядом, и, щелкнув выключателем, толкнул ее.
— Входи, Иван Аркадьевич!
Я вошел, и на меня дохнуло запахом давно непроветриваемого склада.
Чего тут только не было! Старинного черного дерева резное кресло не иначе как украшало когда-то кабинет титулованной особы. Об этом красноречиво свидетельствовал герб, вырезанный на высокой спинке, — два скрещенных копья, над