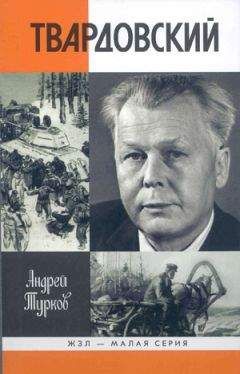** Я не мог еще дать конституцию России (фр.).
*** Я не смогу никогда дать… (фр.).
**** Правление есть самовластие, ограниченное удавкою (фр.).
До цареубийства не доходило, но еще неизвестно, что более чревато потрясением основ — ежели один пылкий юноша из благородной фамилии по своей вольнодумной легкомысленности вонзит в бок тирана (или пособника тирана) — кинжал, или когда о такой возможности говорят, хотя и за бутылками V.C.P., хотя и не на улицах, хотя и дома, но зато все юноши из благородных фамилий. Вот они — сидят и поют в голос: Не плачь дитя, не плачь, сударь; Вот бука, бука — русский царь!
Потом они опять пьют и читают друг другу стихи: о любви, о дружбе, о лени, о праздности, о пирах, о проказах, о прелестницах, о друзьях, о неге, об унынии, о рабстве, о свободе. Люблю с красоткой записной На ложе неги и забвенья По воле шалости младой Разнообразить наслажденья. Ум их не утоплен в вине, и они трезвы. Я люблю вечерний пир, Где Веселье — председатель, А Свобода, мой кумир, За столом законодатель.
Или — не так! Ум утоплен, ибо ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом. В углу безвестном Петрограда, В тени древес, во мраке сада, Тот домик, помните ль, друзья, Где наша верная семья, Оставя скуку за порогом, Соединялась в шумный круг И без чинов с румяным богом Делила радостный досуг?
И до утра слово "пей!" заглушает крики песен.
Они пьют. Гордый ум не терпит плена, и слова любви перемешиваются с историями о том, как в недалекие времена батюшке нынешнего милостивого монарха попался навстречу один из них, а он не снял с головы картуз. Император Павел (а это ему попался на дороге один из них) мог бы упечь его в Соловки, но по рыцарству своему только пожурил его няньку, которая лишь тем оправдалась, что дитя еще неразумное и говорить не умеет (ибо одному из них в ту пору, когда это случилось, едва исполнился год).
Другой рассказывает, как в ночь смерти Павла его батюшка оказался арестован в Михайловском замке: выпросив у Палена дозволение проститься с телом покойного, он прошел мимо первых двух часовых у внешних дверей, но двое других часовых по другую сторону дверей скрестили свои ружья, ибо не слышали разрешения Палена. Батюшка бросился назад, но первые часовые тоже не пропустили его (а Пален ушел). Часа только через два его освободил кто-то из проходивших заговорщиков.
Они пьют. Ум трезвеет, мысли становятся логичными, надежды злыми. Может ли Нерон, спрашивают они, родить Тита или тирану самой природой не дано порождать ничего, кроме рабства и цепей? — Тиран отмечен печатью проклятия, и, как стыд природы, обречен на бесплодие? — Увы! насильники истории плодят, и плодят с наслаждением, рабство, называемое ими преданностью, и подлодушие, называемое ими усердием. — Но Тит? Милосердый Тит, с которым так любят сравнивать нашего милостивого монарха, — он-то что может плодить? — Обман надежд на грядущее просвещение? — Нового Нерона? — История необратима! Новый Нерон не будет! Во всяком случае, у нас. Довольно было кратковременного Павла! — Следует ждать у нас своего Бонапарта! — Но наш-то Тит основал лицей! Он взял Париж! — Париж взяли казаки! — В Париже, между прочим, особенный воздух. В Париже вольнодумцы растут на открытом воздухе, а в Петербурге в теплицах. — Не помню, по какому поводу Карамзин сказал: "Ибо и власть самодержцев имеет свои пределы", или что-то подобное. В Европе это почли бы un lieu commun [Общим местом (фр.).], пошлою истиною, у нас — верно, дерзостию, которую вслух говорить опасно. — Так как все же быть с Титом? — У каждого Тита должно быть по Бруту! — За Брута! Они пьют.
Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил, Что, коль судьбой ему даны б Нерон и Тит, То не в Нерона меч, но в Тита сей вонзил — Нерон же без него правдиву смерть узрит. Дельвига нельзя, однако, представить с мечом.
* * *
Отчасти они и вправду жили, как писали, и писали, как жили.
Лет через десять, когда все кругом остепенилось, когда годы их переменили, когда они уже носили перчатки, чтобы не прятать руки в карманы от холода, имели квартиры не в Семеновских ротах, а ближе к Невскому, и обедали большей частью дома, — в них все по-прежнему сохранялось подобье жизни молодой.
Случай, который вспоминается, состоялся в 830-м году. Времени жить тогда у них оставалось уже в обрез, хотя со стороны можно было думать, что они только начинают. И вот в их кругу оказалось два юноши из нового поколения — которым было столько, сколько им в 818-м году. Один из этих юношей впоследствии записал свое воспоминание:
"Дельвиги жили на берегу Невы, у самого Крестовского перевоза… Пушкин был в это время уже женихом. Общество Дельвига было оживлено в это лето приездом Льва Пушкина… Слушали великолепную роговую музыку Дмитрия Львовича Нарышкина, игравшую на реке… Вечером на заре закидывали невод, а позже ходили гулять по Крестовскому острову. Прогулки эти были тихие и покойные… Раз только вздумалось Пушкину, Дельвигу, Яковлеву и нескольким другим их сверстникам по летам показать младшему поколению, т. е. мне 17-летнему и брату моему Александру 20-летнему, как они вели себя в наши годы и до какой степени молодежь сделалась вялою сравнительно с прежней.
Была темная августовская ночь. Мы все зашли в трактир на Крестовском острове; с нами была и жена Дельвига. На террасе трактира сидел какой-то господин совершенно одиноким. Вдруг Дельвигу вздумалось, что это сидит шпион и что его надо прогнать. Когда на это требование не поддались ни брат, ни я, Дельвиг сам пошел заглядывать на тихо сидевшего господина то с правой, то елевой стороны, возвращался к нам с остротами на счет того же господина и снова отправлялся к нему. Брат и я всячески упрашивали Дельвига перестать этот маневр. Что ежели этот господин даст пощечину? Но наши благоразумные разговоры ни к чему не привели. Дельвиг довел сидевшего на террасе господина своим приставаньем до того, что последний ушел. Если бы Дельвиг послушался нас, то, конечно, Пушкин или кто-либо другой из бывших с нами их сверстников по возрасту заменил бы его. Тем страннее покажется эта сцена, что она происходила в присутствии жены Дельвига, которую надо было беречь, тем более, что она кормила своею грудью трехмесячную дочь. Прогнав неизвестного господина с террасы трактира, мы пошли гурьбою, а с нами и жена Дельвига, по дорожкам Крестовского острова, и некоторые из гурьбы приставали разными способами к проходящим мужчинам, а когда брат Александр или я старались их остановить, Пушкин и Дельвиг нам рассказывали о прогулках, которые они по выпуске из Лицея совершали по петербургским улицам, и об их разных при этом проказах, и глумились над нами, не только ни к кому не придирающимися, но даже останавливающими других, которые 10-ю и более годами нас старее…
Прочитав описание этой прогулки, можно подумать, что Пушкин, Дельвиг и все другие с ними гулявшие мужчины, за исключением брата Александра и меня, были пьяны, но я решительно удостоверяю, что этого не было, а просто захотелось им встряхнуть старинкою и показать ее нам, молодому поколению, как бы в укор нашему более серьезному и обдуманному поведению".
ПРЕДИСЛОВИЕ к Части третьей
Взгляни на лик холодный сей…
Между тем, как мы воображали, что язык чувств уже не может у нас сделать новых опытов в своем искусстве, явился такой поэт, который разрушил нашу уверенность. Я говорю о Баратынском. В элегическом роде он идет новою, своею дорогою. Соединяя в стихах своих истину чувств с удивительною точностью мыслей, он показал опыты прямо классической поэзии.
Первые произведения Баратынского обратили на него внимание. Знатоки с удивлением увидели в первых опытах стройность и зрелость необыкновенную.
— От природы получил он необыкновенные способности: сердце глубоко чувствительное, душу, исполненную незасыпающей любви к прекрасному, ум светлый, обширный и вместе тонкий, так сказать, до микроскопической проницательности и особенно внимательный к предметам возвышенным и поэтическим, к вопросам глубокомысленным, к движениям внутренней жизни, к тем мыслям, которые согревают сердце, проясняя разум, к тем музыкальным мыслям, в которых голос сердца и голос разума сливаются созвучно в одно задумчивое размышление.
— Воспитание его, как видно, было больше блестящее, нежели основательное.
В первом детстве получил он самое тщательное воспитание; оно Много помогло впоследствии развитию необыкновенно утонченного вкуса.
Страсть и способности к Поэзии обнаружились в нем с ранних лет, но необыкновенное, можно сказать, болезненное чувство скромности, сохранившееся во всю жизнь, долго не позволяло ему явиться на суд публики, испытать ее приговора. Вероятно, он навсегда бы укрылся от ее внимания, если б один из друзей его, барон Дельвиг, не напечатал без его ведома одну из его первых пиес. Баратынской часто вспоминал о том тягостном впечатлении, которое произвело в нем это неожиданное появление его стихов, и говорил, что никакой впоследствии успех не мог выкупить этой мучительной минуты.