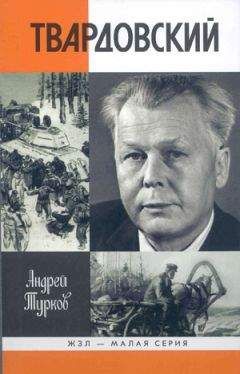— Г. Баратынский — поэт элегический по преимуществу.
— Поэзия г-на Баратынского всегда отличалась эпиграмматическим направлением.
— Если Поэт удовлетворяет Истину и Религию верным и полным изображением порока и наказанием оного, то он обязан, в угождение Поэзии, чем-то возвышенным и прекрасным окружать плачевную смерть грешника и этим обращать нашу душу к идеальному миру, дабы мы отказались от порока — не столько со страха заслуженной и неминуемой казни, сколько из любви к добродетели!.. Вот чего недостает "Эде", "Балу", "Наложнице"!
— Новое сочинение Баратынского… объявляем… если не положительно нравственным, то совершенно невинным. Разврат представлен в нем так, что на него можно только зазеваться: и не живо, и не ярко, и не полно!
— Баратынский поэт, иногда очень приятный, везде показывающий верный вкус, но писавший не по вдохновению, а вследствие выводов ума. Он трудился над своими сочинениями, отделывая их изящно, находил иногда верные картины и живые чувствования; бывал остроумен, игрив, но все это, как умный человек, а не как поэт. В нем не было ни поэтического огня, ни оригинальности, ни национальности.
— Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды… никогда не пренебрегал трудом неблагодарным, редко замеченным, трудом отделки и отчетливости, никогда не тащился по пятам свой век увлекающего гения, подбирая им оброненные колосья; он шел своею дорогой один и независим.
— Некоторые упрекали его в частой переделке стихов, уже напечатанных и имевших успех; замечено, однако, что многие стихотворения, им переделанные, являлись в печати с новым оттенком мысли и получали чрез это характер совершенно свежих произведений. Поэт был чрезвычайно строг к самому себе: успех не удовлетворял его, ежели он чувствовал возможность чего-либо усовершенствованного.
— Во всяком случае, как был он сочувственный, мыслящий поэт, так равно был он мыслящий и приятный собеседник. Аттическая вежливость с некоторыми приемами французской остроты и любезности, отличавших прежнее французское общество, пленительная мягкость в обращении и в сношениях, некоторая застенчивость при уме самобытном, твердо и резко определенном, все эти качества, все эти прелести придавали его личности особенную физиономию и утверждали за ним особенное место среди блестящих современников и совместников его.
— В дружеской беседе, особенно за бокалом вина, он любил изливать всю свою душу.
— Все четверо братьев Баратынских любили выпить более должного.
— С.А.Соболевский, который на своем веку видел образованнейшее общество России и Европы, говорил мне, что он не встречал более милых, приятных и симпатичных людей, как семья Баратынских. Это суждение могли подтвердить все те, кто их знал.
— Баратынский часто довольствовался живым сочувствием своего близкого круга, менее заботясь о возможных далеких читателях. Оттого для тех, кто имел счастие его знать, прекрасные звуки его стихов являются еще многозначительнее, как отголоски его внутренней жизни.
— У него были и поэтические ощущения, и необыкновенное искусство в выражении. Но, знавши его очень хорошо, могу сказать, что он еще больше был умный человек, чем поэт.
— Именно в такое время, когда он был угнетаем и тягостною участию, и еще более тягостным чувством, что заслужил ее, в нем пробудилось дарование поэзии. Он — поэт!
— Он унтер-офицер, но от побой дворянской грамотой избавлен.
— Государь в судьбе Баратынского был явным орудием Промысла: своею спасительною строгостию он пробудил чувство добра в душе, созданной для добра!
— Я не хочу говорить много о его несчастии — потомство рассудило Овидия и Августа, но не римляне; скажу только, что я не видал человека, менее убитого своим положением.
— Мы помним Баратынского с 1821 г., когда изредка являлся он среди дружеского круга, гнетомый своим несчастием, мрачный и грустный, с бледным лицом, где ранняя скорбь провела уже глубокие следы испытанного им. Казалось, среди самой веселой дружеской беседы, увлекаемый примером других, Баратынский говорил сам себе, как говорил в стихах своих: Мне мнится, счастлив я ошибкой, и не к лицу веселье мне.
— Этому разочарованию остался он верен по смерть.
— Нисколько не казался он разочарованным и не показывал себя страдальцем. С любезностью самого светского человека соединял он живость ощущений, и все достойное внимания мыслящего человека возбуждало его внимание.
— Но молодость его была несчастлива… печально и одиноко провел он лучшие годы своей юности. Это обстоятельство, вероятно, содействовало к тому, что его самые светлые мысли и даже в самое счастливое время его жизни остались навсегда проникнуты тихою, но неотразимою грустию. Впрочем, может быть, он и от природы уже был склонен к этому направлению мысли, которое очень часто замечается в людях, соединяющих глубокий ум с глубокою чувствительностию. Оно происходит, вероятно, оттого, что такие люди смотрят на жизнь не шутя, разумеют ее высокую тайну, понимают важность своего назначения и вместе неотступно чувствуют бедность земного бытия.
— Баратынский, говоря о своей Музе, охарактеризовал ее как обладающую "лица необщим выраженьем". В приобретении этого необщего выражения и состоит, видимо, смысл индивидуального существования… Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит прежде всего в том, чтоб прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую жизнь. Ибо она у каждого из нас только одна, и мы хорошо знаем, чем все это кончается.
У-у-у-у-у…
Холодно. Мчась из-за низких казарм, молча налетает ветер с залива.
— Слу-шай! — кричит офицер.
Флигельман вышагивает перед фрунтом, становясь так, чтоб все три шеренги видели, как он показывает темпы заряжения и пальбы. Ветер дует. Снег скрыпит. Серенькие тучи.
— Ди-визио-о-он! за-ряжай ружье!
— Слу-шай!
— К за-ряду!
— Заря-жай!
— О-бороти ружье!
— Шомпол!
— Бей!
— Вложь!
— На пле-чо!
— К пальбе дивизио-ном!
— Товьсь!
— Пли!!!
Клацают затворы, щелкают курки. Пули не вылетают из дул, пороху на полках не положено.
Снег, дождь, ветер с залива.
— Р-раз, р-раз, р-раз, два, три! Левой! Левой! Выше носок, р-ракалья! Тяни ногу! Р-раз, р-раз…
— А-а-атставить!
* * *
Только напрасно чувствительное воображение выводит на плац, где идет ротное учение лейб-гвардии Егерского полка, вместе с прочими солдатами гвардии рядового Боратынского и заставляет его выслушивать весь этот внушающий знакомый трепет окрик. Не для того Боратынского устроили под команду Бистрома, чтобы он упражнялся во фрунтовой службе и ружейных темпах. Да, казенные белые панталоны, темно-зеленый мундир, с черными лощеными ремнями, серую шинель, фуражку, — все это он надевал. Но чтобы вот так, каждый день, под ветром, под снегом, со всеми в шеренге?..
Другое дело — караулы и разводы [Развод — построение солдат перед отправлением в караул.]. "Самым сложным по своим обязанностям был караул в Зимнем дворце. Здесь во внутреннем дворе была расположена главная гауптвахта, куда вступала ежедневно целая рота с ее капитаном и двумя младшими офицерами. Днем охрана дворца не отличалась никакими особенностями; ночью же число часовых увеличивалось двумя… Первого из них ставил сам капитан в сопровождении старшего унтер-офицера и ефрейтора. Впереди шел один из придворных низшего ранга и указывал дорогу, которая проходила через целый лабиринт комнат, лестниц и закоулков. Вторая смена в час ночи отводилась таким же порядком поручиком, а третья смена в три часа отводилась другим младшим офицером караула". — В этом карауле был разработан особенный шомпольный телеграф, связующий второй этаж дворца с караульней гауптвахты. Часовой, слышавший во втором этаже шум, должен был немедля бросить через окно во внутренний двор шомпол, а часовой, стоявший в карауле внизу, с этим шомполом, как с эстафетой, обязан был мчаться в караульню сообщать о чрезвычайном происшествии. Капитан с полуротой взлетает по черной лестнице во второй этаж, полурота оцепляет место, источавшее подозрительность. Товсь!
До пли! дело не доходило, конечно.
В дворцовом карауле Боратынскому пришлось, кажется, побывать. Впоследствии он рассказывал: "…один раз меня поставили на часы во дворце, во время пребывания в нем покойного государя императора Александра Павловича. Видно, ему доложили, кто стоит на часах, он подошел ко мне, спросил фамилию, потрепал по плечу и изволил ласково сказать: послужи!"
Он и служил.
А время шло.
Уже Дельвиг отдал Измайлову (в конце января — начале февраля) напечатать мадригал Боратынского в "Благонамеренном", и Боратынский был изумлен (сам он говорил, что изумлен неприятно), увидев свою фамилию в журнале. Уже Педагогический институт был торжественно переименован в университет, и Кюхельбекер стал теперь именоваться служащим в университетском благородном пансионе, а Левушка Пушкин — учащимся в университетском благородном пансионе. Уже настал слякотный март, и старший Левушкин брат, кажется, на деле собрался вступать в военную службу ("Он не на шутку сбирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уж войною").