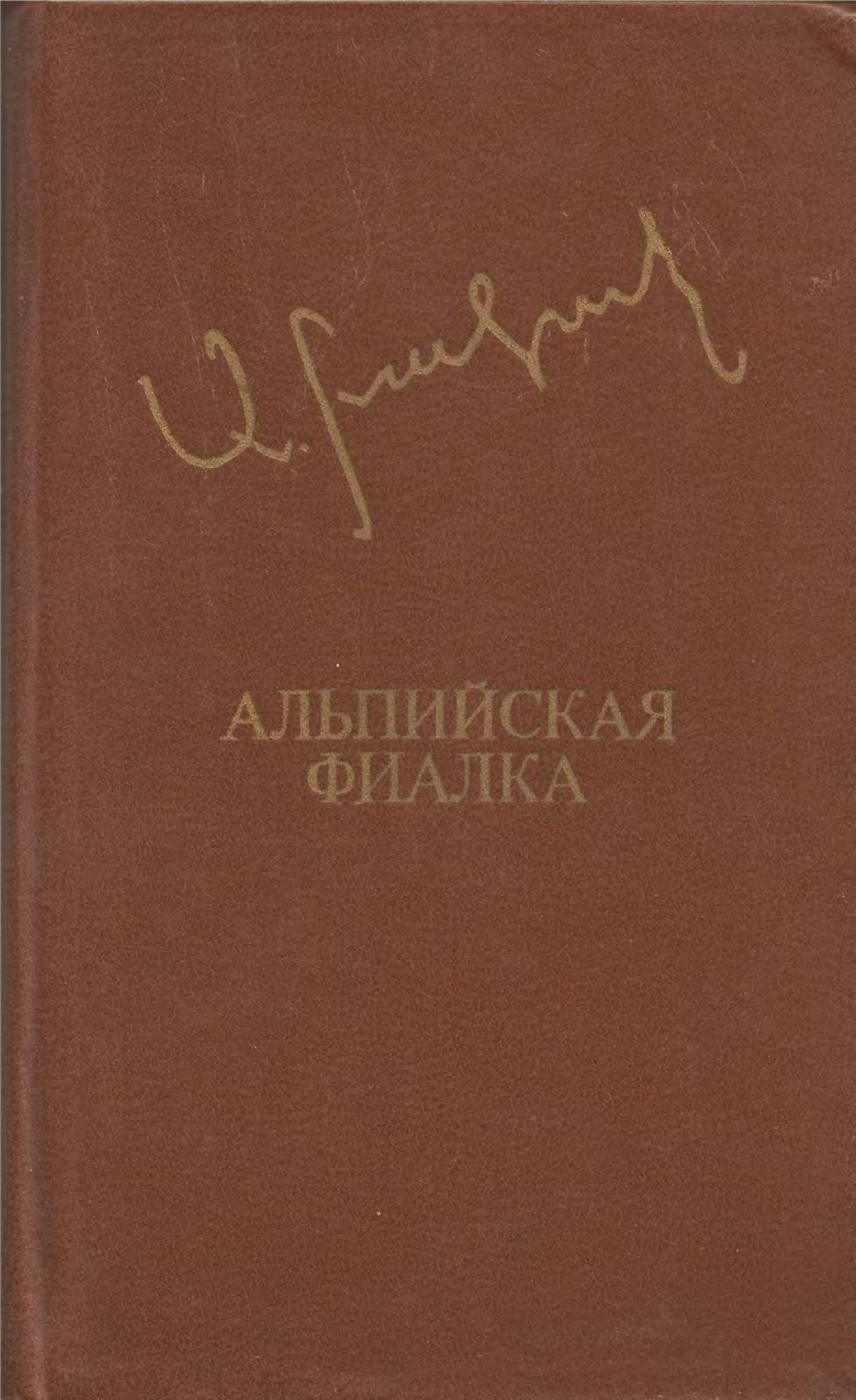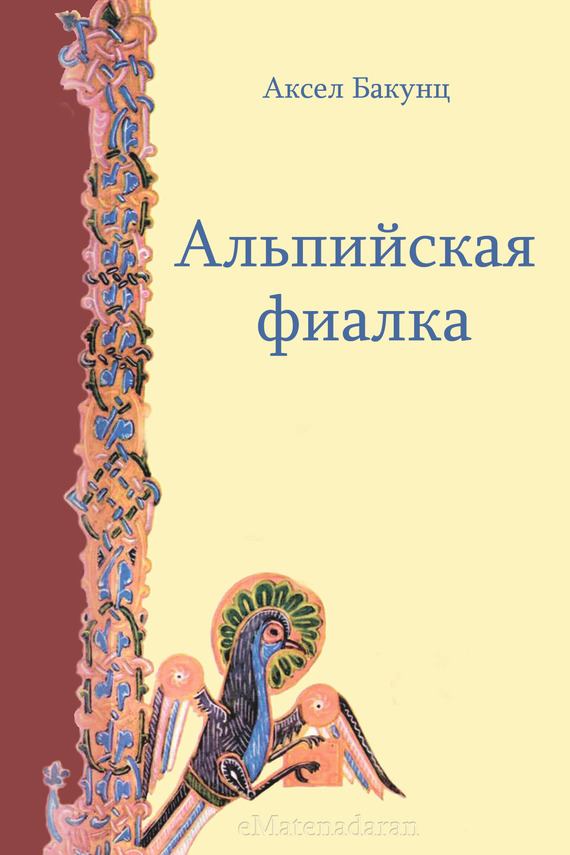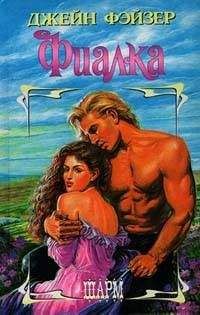ворот.
— Ты иди вперед. Спросит — скажи, ели туту в саду у дяди.
А Ана-зизи к вечеру приходила к нам во двор и жаловалась матери:
— Где этот шалопай?.. Поймаю — уши надеру. Изорвал в клочья всю одежду, шатаясь по скалам.
— А наш пострел потерял пояс, — отвечает моя мать.
И обе ругают нас, рассказывая о наших проказах, как мы с утра до ночи не евши пропадаем в садах, «по шестьдесят раз лезем в воду» и приходим домой посиневшими от холода. В то время как они нас ругают, Андо заглядывает через стену и делает знак рукою.
— Нет ли у тебя толченой соли, дай мне пригоршню — заканчивала Ана-зизи.
Они входили в дом, а мы удирали в маслобойню — место наших вечерних игр.
Я сижу под абрикосовым деревом и греюсь, как греются камень, озябшая от снега земля и деревья, еще голые, но уже начинающие чернеть от солнечного тепла.
Между голыми стволами деревьев виднеются цветные дома города, над которым расстилается голубоватая вуаль дыма и пыли. Более ясно очерчиваются глиняные землянки и заброшенные в садах давильни.
Сухие листья шелестят под ветром; они перелетают через камни, толкают друг друга, жмутся к моим ногам и шепчут; как ручеек: «Весна! Весна!..»
Ветер доносит звуки города. Слышно, как вколачивают в доску гвозди. Трах-трах — стучит тупой конец деревянного молотка жестянщика. Скулит какая-то собака. Я вижу ее с холма: волоча ногу, она выбегает из маленькой хижины. За ней выходит женщина, она ей что-то швыряет. Неужели эта насыпь — дом и там живут люди? Она имеет даже дверь; вот женщина прикрывает ее и с какой-то ношей на спине спускается к реке. Там еще две женщины. Одна из них наклоняется, полощет в реке белье, другая развешивает на ветру синие, красные тряпки и расстилает их на камнях. Первая женщина подходит к ней; она что-то объясняет ей руками; вероятно, проклинает собаку. Если бы эта женщина стала на холмик, она бы увидела, что собака вернулась, легла у двери, как верный сторож, и лижет свою больную ногу.
Поезд скользит черной лентой. Дым клубами ложится на поля. Свистит паровоз, и ветер доносит его глухое пыхтение. Вероятно, теперь пассажиры прижались лбами к окнам вагонов и ждут, когда покажутся станционные здания. Должно быть, среди них есть девушка, особенно тяжело переживающая эти минуты. Она оставила свой дом на замке и уехала. На перроне ее кто-то встретит, и она трепетно откроет перед ним сердце, полное любви.
Ветер шелестит листьями. Исчезает поезд… Я закрываю глаза, и шорох листьев напоминает мне час чтения в классе.
В классе… Абрикосовое дерево бросает тень на мои тетради. Солнечный луч сверкает на конце карандаша и отражается на моем ногте. Кто-то меня толкает:
— Как прописное «Ж»?
— Э… э… э…
— Дам тебе дудку.
— Вот, смотри. — И я показываю.
— Последняя скамейка, тише! — делает замечание учитель, прислонившийся к кафедре. Скрипят его сапоги. Мы низко склонились над тетрадью для чистописания, но чувствуем, что он направляется к нам.
Очень мешает это абрикосовое дерево, растущее перед единственным окном нашего класса. Когда дует ветер, дерево шумит и его ветки стучат в окно. Тень от дерева и желтые блики солнца прыгают по моей тетради, качаются, как колыбель водяной птицы.
— Беги звони! — И дежурный срывается с места.
Наступают самые веселые и шумные минуты ожидания, пока зазвенит колокол и мы выбежим во двор. Толкаем друг друга, щиплем; детская жизнерадостность, подавляемая усталостью и вынужденным молчанием, вырывается наружу.
Сидя под этим сухим абрикосовым деревом в этот сверкающий весенний день, когда веселое солнце смягчило картину мрачного нагромождения камней, я пишу о моем детстве, об этом абрикосовом дереве и о моем товарище Андо. И в то время как сухие листья, шелестя, бьются о мои ноги, ко мне протягиваются две тонкие ручки и просят:
— Напиши и обо мне.
Это Нушик, девочка с пожелтевшим лицом и тонкой шеей. У нее большие и грустные черные глаза. Она часто плачет. У нее нет отца, а мать занимается стиркой по чужим дворам. Когда холодно или сыро, Нушик входит, пряча под передник озябшие пальцы. Иногда она приходит без завтрака; если же что-нибудь приносит, то только хлеб и печеную картошку.
Когда Нушик бывает с нами, девочки ее не дразнят, так как боятся Андо. Как-то раз Машо (ее отец сидел перед керосиновым складом и, когда не было посетителей, играл с «русскими» [30] в нарды) рассказывала в классе, что мать Нушик украла кое-что из белья во время стирки. Нушик заплакала:
— Моя мать — не воровка!
Вошел учитель. Начался урок, худые плечи Нушик вздрагивали, словно ей было холодно.
— Машо, — сказал на перемене Андо, — видишь этот нож?
Машо, увидев нож, с плачем побежала к учителю.
— Ты ведешь себя нехорошо, Андо… ты похож на уличного мальчишку.
Учитель отнял у него нож, а на следующий день Ана-зизи пришла к нам.
— Соседка, не у вас ли наш гмалты?
«Гмалты» назывался заржавленный нож с костяной ручкой. Ана-зизи полола им грядки кресс-салата.
Андо показал Машо кончик гмалты и припугнул:
— Только скажи учителю…
И Машо ничего не сказала учителю. И вот весною Ана-зизи заменила гмалты острой костью.
Вечер. От белых горных вершин подымается голубое сияние. Ясно виднеются очертания горной цепи.
— Горизонтом называется линия, соединяющая небо с землею.
Повторяю в уме то, что много лет тому назад громко отвечал на уроках географии.
— Повтори, Андо!
Андо повторяет.
— Садись!
Входит инспектор. Встаем с мест.
— Кто до конца недели не принесет платы за учение, будет исключен.
Инспектор подымает голову, оглядывает замолкший класс. Затем удаляется. Голубой глобус вертится под рукою учителя географии, и мы повторяем хором:
— Земной шар круглый…
Нушик отстает и «лый» произносит одна, дрожащим голосом. Девочки смеются. Нушик опускает голову, а учитель подымает линейку. Вместе со взмахом линейки открываются наши рты, и мы повторяем, что земной шар круглый.
Вечер синий. Дым, подобно дикой лозе, волнами обвивает скалу.
Где-то жалобно мычит корова. Все знают, что это мычит Наргиз, ее теленок недавно сорвался со скалы. Корова облизывает его набитую сеном шкуру и не чувствует живого тепла.
— Андо, а плата за учение?
— Пусть нани кончит доить.
Ана-зизи доит мычащую Наргиз, разговаривает с нею, утешает ее, и корова стихает, словно понимает ее язык.
— Нани!
— А?
— Просят плату за учение. Учитель сказал…
— Что делать, родненький, Наргиз перестала доиться: продала бы молочка. Погоди, вот отец свезет кувшины в Гетер.
Осенью гончары возят в Гетер кувшины