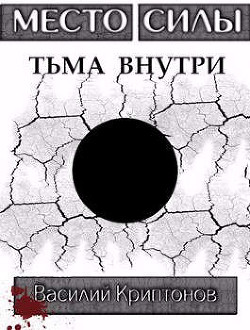так загорелся, что забыл о всяких условностях.
«Если у нее есть „ковчег“, это уж, как минимум, шестнадцатый век», — лихорадочно отыскивал я на мягкой, проржавевшей от лет и сырости жести следы гвоздей. Наконец левая сторона этого примитивного оклада, сросшаяся с краской последнего слоя, сцементированная ржавчиной и плесенью, была освобождена. Осторожно, чтоб не повредить саму икону, я отделил один уголок. Вместе с окладом отстали и солидные куски краски, обнажив второй и третий слой более ранних рисунков, — и я чертыхнулся невольно: подержи Тоня эту икону в воде еще несколько дней, она могла быть вконец испорчена.
«Есть ли у нее ковчег? Есть ли у нее ковчег?» — билась теперь в моем сознании мысль.
Перед новой серьезной операцией я позволил себе еще одну сигарету. Последнее сразу же было замечено бдительной Клавой.
— Ты чего это там раздымился, Иван? — донесся из кухни ее шутливый голос. — Теперь в нашем доме две женщины, будешь дымить в коридоре…
— Согласен! — воскликнул я радостно. — Я на все согласен!
— Что это с тобой? — вытирая руки о фартук, жена выросла в дверях. Из-за плеча выглядывало лицо Тони.
Я осторожно приподнял оклад по всему низу иконы.
— Ура! — закричал я хрипло, горло от волнения перехватило. — У нее ковчег!
— Что с тобой, сумасшедший? — таращила глаза жена. Ничего не понимая, переводила взгляд с меня на икону и побледневшая Тоня.
— Со мной — ничего! — я рванулся к ним и обнял их обеих, шальной от радости. — У твоей иконы, Тоня, — ковчег!
— Да объясни ты толком, Иван, что такое — твой ковчег? — поправляя помятую мной прическу, спросила наконец жена.
— Это? Это — очень много! — спешил я поделиться радостью открытия. — Это значит, что Тонина икона написана в пятнадцатом веке, а возможно, даже еще раньше! Это значит, что ее икона — большая ценность!
Клава, однако, не разделяла моей взволнованности.
— Эта старая рухлядь? Да откуда это видно?
— Как же откуда? Вот видишь — ковчег?
— Ничего не вижу!
— A-а! Вы же ничего не знаете! Вот видите, по краю икона как бы приподнята. Как поднос! Так делали в старину доски для иконы. Это и есть ковчег! Твоя богородица написана в очень древние времена, — растроганно сказал я Тоне и поразился, что это ее не обрадовало. Ничуть.
— Ты же можешь прославиться! — сказал я. — Если мое предложение верно, место твоей богородицы в музее! Да, да!
— А чем черт не шутит? — приобняла жена гостью. — Может, и в самом деле, Тоня, тебе привалило счастье?
— Да какое же в этом счастье? — улыбнулась та грустно.
— Чудачка! Разве это не счастье — открыть для своего народа, для нашей культуры новую художественную ценность? Может, эту икону кто-нибудь из знаменитых мастеров написал? Сам Андрей Рублев, а? Ученые разберутся. Сейчас я вам покажу… Клава, будь добра, принеси мне немного постного масла… Садись, Тоня, смотри…
Я вынул из аптечки вату, бутылочку нашатырного спирта, достал из карандашного стакана скальпель.
Жена поставила передо мной бутылочку с маслом.
Я обмакнул ватку в масло, протер раз-другой уголок иконы. Сухой ваткой осторожно вытер его, снова промазал, снова вытер. Мелкие крошки краски, застарелая пыль сошли с этого уголка, и тогда, обмакнув в нашатырь чистую кисточку, я протер ею обработанное пятнышко.
Краска не поддавалась.
Я терпеливо начал все сначала.
Понаблюдав за моими манипуляциями, нанюхавшись нашатыря, Клава удалилась.
— С тобой без обеда останешься!
Тоня смотрела безучастно.
Я понимал, что взялся не за свое дело, что устанавливать возраст иконы, а тем более трогать слои изображения — занятие не для дилетантов, как я, а для опытных реставраторов. Ведь легко и вовсе испортить вещь. Но меня, хотя я и не отдавал себе отчета в этом, вдохновляло Тонино присутствие и, как ни горько признавать, ее неосторожное обращение с реликвией. Но ведь она могла испортить икону от совершенного незнания, непонимания ее ценности, а я-то понимал, что могу нанести произведению древних мастеров непоправимую порчу. Понимал, но не мог преодолеть себя. Не мог.
Когда спирт наконец растворил слой краски, я осторожно стал действовать скальпелем: скоро пятнышко величиной со спичечную головку сверкнуло огненно-красным светом. Было такое впечатление, что в замочную скважину заглянул солнечный восход.
— Что это? — ахнула Тоня.
— Ага! — торжествовал я. — Что это? Проснулись все-таки! Это, Тонечка, кусочек того рисунка, на который намалевали твою богородицу неизвестного пола!
Я обнял Тоню и, подхватив, закружил по комнате. Она растерянно и несмело отстраняла меня, но я сгоряча успел даже поцеловать ее.
Глава шестая
НЕПРИЯТНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
Когда директор вызвал меня к себе, я и предположить не мог, о чем пойдет у нас разговор. Думал, опять, как и в прошлом году, начнет уговаривать, чтобы я не наставил двоек даже самым матерым лодырям, что водились в шестом «Б». «Уж если по алгебре или геометрии Лилия Ивановна Аданчик умудряется вытянуть своих недоучек, то по литературе сам бог велел трояки им поставить» — так или близко к этому должен рассуждать мой уважаемый директор. За отстающих его в районе не гладят по головке.
Но Семен Далматович меня удивил.
Еще от порога он встретил меня суровым взглядом, забыв поздороваться.
— Иван Аркадьевич, на тебя жалоба.
Директор облокотился на стол и подул по привычке в сложенные лодочкой ладони, будто они у него озябли.
— Что такое? — невольно улыбнулся я. — Какая жалоба?
Но он оставался серьезным. Его лысина медленно наливалась краской, что не предвещало ничего хорошего.
— Какая жалоба, говоришь? А что это ты, советский учитель, коммунист, повесил рядом с портретом Гагарина какого-то святого? Икону?
Я засмеялся. Вон оно, оказывается, что. Я действительно повесил Тонину богородицу на стену, чтобы просушить ее. Написав старому товарищу, художнику-профессионалу, в Москву письмо с просьбой связаться с каким-нибудь музеем древнего искусства и показать им нашу икону, я в ожидании ответа решил хорошенько подготовить ее к дальней дороге. Ну, повесил. Ну, сушится икона. Что из этого следует?
Рассказываю, а на лице у директора все та же недовольная гримаса. Глаза хранят металлический холодный отсвет.
— Все, что ты говоришь, Иван Аркадьевич, интересно. Только скажу, дружок, икону надо снять. Сам атеистические лекции читаешь, а дома икону повесил.
— Даже если эту икону написал ученик Дионисия или Андрея Рублева?
— Даже! Сунул бы ее куда в сарай — да и дело с концом!
— Странно мне тебя, Семен Далматович, слушать. Ты же историк. Неужели не понимаешь, будет большая потеря для мирового искусства, если такая древняя вещь погибнет?
— У меня нет времени заботиться о мировом искусстве, но в