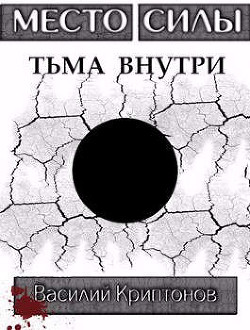классом, уткнувшимся в хрестоматии. Ребята старательно перечитывали эпизод из гоголевского «Тараса Бульбы» о том, как старый атаман убил за измену казацкому делу сына своего Андрия. Шелестели перелистываемые страницы, беспрестанно шмыгали носы, а кое у кого из девочек непрошенные слезинки скатывались по щекам; неисправимые озорники, вроде рыжего, как подсолнух, Димки Чалина, успев первыми проскочить главу, дергали соседок за косички; другие задумчиво уставились в книжки.
Давно пора задавать ребятам вопросы по этому отрывку или спросить одного-двух Тарасову речь о товариществе, что задал я выучить наизусть, только никак не могу я взять себя в руки и сосредоточиться…
— Чалин! — вызываю, я.
Димка, поспешно заглянув в книгу, поднимается.
Длинный мальчишка. Встань с ним рядом, так, пожалуй, почти вровень будет, а на уме одни шалости.
— Ну, Дмитрий Федорович, познакомьте нас с тем, как Тарас Бульба относился к товариществу!
Димка выпаливает запомнившиеся первые фразы:
— Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя… — и, закинув голову, начинает шарить глазами по потолку, словно там написано продолжение монолога старого запорожского атамана.
— Ну…
— Иван Аркадьевич, я учил, — на всякий случай, пытаясь разжалобить, канючит Димка. — У них, у запорожцев, какие-то слова непонятные!
— Точно, — подхватывает дружок Чалина Петька Полфунтиков, мотая головой, чтобы его длинная челка не закрывала глаза.
— Можно, Иван Аркадьевич, я прочитаю? — тянет руку прилежная Юля Липатова, худенькая, с острым смешливым носиком и большущими синими глазами девочка.
Дай этой труженице задание, она всю хрестоматию наизусть выучит!
— Ну что ж, Юля, выручай ленивых бурсаков!
Девочка торопливо откидывает крышку парты, вытягивается в струнку.
— Нет уз святее товарищества! — пронзает настороженную тишину класса ее высокий звонкий голосок.
«Интересно, — думаю я, — сколько сегодня уроков у Тониного сынишки? Не захватить ли его домой? Парню будет приятно, что и его кто-то встречает из школы, как других… Эх, Клава, Клава, милая ты моя подружка! Что же не подарила ты мне ни сынка, ни дочурки?»
Знаю я, почему не подарила. Ленинградская блокада, голод, лишения, перенесенные в детстве, лишили ее материнского счастья. Только разве знать причину — это быть счастливым? «Что-то заболталась Юля? Велик ли отрывок?» Та всегда вылезала за рамки программы и гордилась этим.
И сегодня Юля опять шпарила дальше заданного.
— Знаю, подло… Юля споткнулась на трудном, непривычном слове.
— Подло, подло! Правильно! — подсказал ей я, ободряя, и она, четко выделяя слова, декламировала дальше:
— …подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их…
«Эх, как она по современным чуклаевым проехалась — лучше и не придумаешь! Далеко смотрел любезный сердцу моему Николай Васильевич Гоголь».
…Звонок прозвенел неожиданно.
Торопливо продиктовав ребятам домашнее задание, я с огорчением подумал, что теперь не успею за Коляном. Тот наверняка уже мчится с приятелем домой.
И точно, когда я подошел к дому, мальчишка, на ходу дожевывая булочку, вылетел к ждавшим его дружкам.
Клава возилась с цветами.
— Проходи, дорогой, умывайся! — кивнула она мне. Осторожно, чтоб не задеть лицо испачканными землей ладонями, убрала со лба выбившуюся из-под косынки прядь. — Проходи, я сейчас!
Я вошел в дом и понял, почему Клава решила задержаться. Пока мы с ней были в школе, наша гостья так похозяйничала, что комнаты было не узнать: выскобленные полы, еще не совсем просохшие, блестели, с неделю валявшиеся в углу дорожки выбиты и, наверно, проглажены — ни одной морщинки; стекла книжных шкафов в моем крохотном кабинетике лучились, как зеркальные, а подрамники и трубки холста, до этого разбросанные по дивану, по столу, по полу, аккуратно составлены в углу и прикрыты пестрой занавеской.
Сама Тоня, сидя на корточках перед чемоданом, перебирала белье.
Украдкой глянув на меня, она вынула из-под рубашек и брюк сына что-то похожее на большую толстую книгу, завернутую в платок. Я бы не придал этому никакого значения, если бы Тоня не зарделась и не сунула торопливо черный сверток под кровать.
Я и спросить ее ни о чем не успел. Она прижала руки к груди, виновато и просительно улыбнулась.
— Иван Аркадьевич, я с собой икону принесла. Вы, пожалуйста, не сердитесь на меня. Я ее не повешу…
— Только нам этого с тобой и не хватало, — усмехнулся я, собираясь с мыслями. — Ты же не верующая, Тоня. Нет?
— Нет, — она нерешительно качнула головой.
— Так зачем же тебе икона?
— Я и сама не знаю, — Тоня стыдливо опустила густые ресницы. — Ее Петр Лукич мне дал… — Запнулась, отвела глаза. — Говорит, может, моему мужу… богородица поможет. Только на нее, мол, надежда. Столько мужик мается… Не хотела я эту икону брать, на ней и лика-то никакого не видать, побоялась обидеть тетку — она ведь тоже больной человек… Посмотрите, если хотите…
Тоня развернула черный платок и протянула мне икону.
Ничего примечательного, на первый взгляд, в этой иконе не было. Из глубокой рамки, словно из темной глубины колодца, смотрели грустные, укоризненные глаза святого — то ли женщины, то ли мужчины, сразу и не разобрать: на краске — сплошные потеки и трещины. Доска показалась мне излишне тяжелой для своего сравнительно небольшого размера. Видно, я достаточно долго взвешивал ее на ладони, и Тоня простодушно призналась:
— Отмачивала я ее. Думала, потом отмою, посветлей станет….
«А может, эта икона из старинных?» — подумал я, без особого интереса стал осматривать ее, неторопливо поворачивая в руках.
С улицы вошла Клава. Не обращая на наше занятие никакого внимания, она прошла в кухню, и, вымыв руки, занялась обедом.
Тоня опять деловито стала перебирать белье в своем чемодане; похоже, что судьба иконы ее действительно не волновала.
Я положил икону на стол и собрался закурить. Уже доставая сигарету из пачки и шаря взглядом по столу в поисках спичек, вдруг заметил в одной из трещин на теле иконы свежий металлический блеск.
«Не может быть!»
Я медленно, сдерживая волнение, закурил. Затем снова повел взглядом по покрытию иконы, по многочисленным крапинам, трещинкам, пятнам — тот золотистый пронзительный отсвет не возникал. «Конечно, откуда ему быть на ней? — успокаивал я себя. — Откуда многослойной древнейшей иконе взяться у этого старого куркуля Чуклаева?»
А взгляд, уже не подчиняющийся мне, снова и снова обшаривал черную доску со смутным укоризненным ликом на ней.
Торопливо достал я из столярного ящика клещи и пару отверток. Чтобы проверить свою догадку, мне нужно было снять с доски, которая могла оказаться древней, ее куда более позднее украшение — жестяные цветы. Конечно, надо было спросить разрешения на это у Тони, но я уже