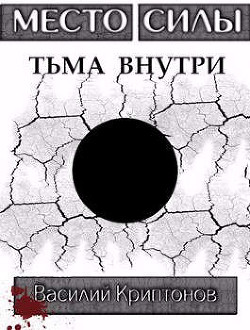— признаком то ли внутренней боли, то ли невысказанной досады. Вроде всего на минуту взгрустнулось ей, легла на бледном лбу эта горькая морщиночка, грусть отразилась в больших, широко распахнутых миру глазах, но стоит солнечным лучам коснуться ее лица — и радостно осветится вся она, красивая, юная.
Увлекся, размечтался я и не заметил, как неслышно подошла ко мне Тоня. И не увидел я ее, а услышал близко стесненное, сдерживаемое дыхание.
— Тоня!
— Здравствуйте, Иван Аркадьевич! Как красиво вы рисуете!
На ней был ситцевый в голубой горошек сарафан. Солнце осветило ее волосы, и я пожалел, что не успел набросать тот портрет, что только стоял в моем воображении. До чего же она красивая, эта Тоня.
Я смешался от своих мыслей, от таких обыкновенных и привычных в устах местных жителей слов «как красиво вы рисуете!». Я ли не понимал, что это говорят не они, а их неискушенность. И сейчас, из ее уст, эта похвала смутила, как незаслуженная награда, и обрадовала, как нежданный, но желанный подарок.
— Здравствуйте, Тоня! Здравствуйте! Вы не на работе? Ой, совсем зарапортовался. Что же вы… не перебираетесь? У вас, слышу, уже переезд…
— Да, Лукич тот шифер, что продал, грузит… А Клавдии Лазаревны нет еще?
— Через часок будет…
— Колю-то я в школу отправила…
— Правильно, — успокаиваясь и свертывая свое художество, сказал я. — Зачем уроки пропускать? Сама-то сегодня не работаешь или отпросилась?
— Ой да и не знаю, Иван Аркадьевич, как мне быть? — на глазах Тони навернулись крупные, как бусины, слезы.
— Да что ты, Тоня? Успокойся! Ну чего же теперь раздумывать, коли обо всем договорились?
— Не могу я, не могу, — она прижала ладонь к лицу и безвольно опустилась на мой складной стульчик.
Видно, ее растерянность придала мне решительности. Я сунул ей в руки свой платок — «Вытри-ка слезы!» — и открыл калитку.
— Пойдем, Тоня!
В ворота чуклаевской усадьбы кузовом вперед въезжал грузовик. Краснолицый шофер в потертой кожаной тужурке стоял на подножке и, одной рукой держась за кузов, а другой за баранку, потихоньку, чтоб не зацепить бортом кирпичные массивные столбы, подавал машину во двор.
— Хорош? — орал он, крутя головой.
— Газуй, газуй! — откликался со двора вчерашний знакомый, Гаврила.
Увидев Тоню рядом со мной, Гаврила хохотнул:
— Неплохо устроился, сосед!
На что я, ругая себя за несдержанность, ответил:
— Как видишь! Без… твоего шифера.
Крикнул и осекся, во дворе, за крыльцом веранды, торчала кудлатая голова самого Чуклаева и еще нескольких незнакомых, но явно наших, сельских, мужчин и женщин. Видно, Чуклаев сбывал им то, что не понадобилось покупателю дома: водяной насос с кругами толстого резинового шланга, трубы водяного отопления, листы кровельного железа.
«И что тебя, Иван Аркадьевич, — честил я себя, — словно за язык тянут? Вот крикнул и вроде согласился принять пошлый намек этого обормота Гаврилы. Ну зачем это тебе было надо? Мало у тебя хлопот без этих судов-пересудов?»
Мы прошли с Тоней в дом, и она вытащила из-под койки старый фанерный чемодан. Несмело поставила возле меня.
— Он не тяжелый, Иван Аркадьевич, — извиняющимся тоном сказала она.
Я, не остывший после своих запоздалых размышлений, хорохорился:
— Нет уж, Тоня! Коли уж я пришел с тобой, клади в чемодан побольше: нечего нам тут толкаться рядом со всякими… шаромыгами!
Без малого весь ее скарб уже перекочевал в наш дом и был на скорую руку свален в углу кухни, осталось захватить корзинку с разной мелочью — Колькиными подшитыми валенками, парой потрепанных сандалий и тапочек, еще бог весть какой ветошью, ведро с тарелками и чайной посудой. Вот тут-то Чуклаев, озабоченно и деловито беседовавший с покупателями, обернулся и вроде впервые заметил нас.
Он торопливо подошел к нам, махнув рукой покупателям, чтоб те подождали. А покупатели, оставив на время свои заботы, выжидающе уставились на нас.
— Спасибо, эзнай [11], спасибо тебе за все, — губы у Тони неожиданно задрожали, она вот-вот заплачет.
— Подожди, подожди. Ты куда это собралась? — с деланным удивлением воскликнул он. — Ты куда это, а? Иди, иди, положь вещи на место, — он взял Тоню за плечи и стал слегка подталкивать к дому. — Дом пока наш, бежать из него еще рано!
— Нет, эзнай, нет. Самое время!
— Это что еще за номер? Родная ты мне или не родная? — на весь двор, явно привлекая внимание, закричал Петр Лукич. — Не оставлю я вас здесь с Коляном, с собой заберу. И Сандору так отпиши: поедем с эзнаем в город. Там и врачи получше наших, сразу его на ноги поставят!
Не услышь я вчера его слезной просьбы приютить Тоню с сыном и обещания за это продать по дешевке шифер, не помни я вчерашних Тониных слез, я бы запросто поверил, что это возмущение Чуклаева чистосердечно и искренне.
Но чужие-то люди, собравшиеся во дворе, этого не слышали. Знакомых явно обескуражила и озадачила эта сцена. «Чего бы это Тоне не поехать с дядей ее мужа, когда в доме одна, не слазящая с печки больная хозяйка и некому присмотреть за домашним скарбом? Разве не требуют от нее этого и народные обычаи, и законы родства?»
— Ой, нехорошо, нехорошо, — уже запричитал кто-то из женщин, и всхлипывающий, жалкий этот голос колол мне спину. «А может, и вправду одумался Чуклаев?» — подумал я и взглянул на Тоню. Но женщина, видно, была решительнее и тверже в своих поступках, чем я.
— Отпишу, отпишу, не беспокойся, эзнай, — она мягко сбросила с плеч его руки и покрепче подхватила кастрюлю. — Счастливой дороги тебе, эзнай!
— Вай, как ты меня обидела, Тоня! Как нехорошо поступаешь! — бросал упреки Чуклаев вслед убегавшей женщине, а потом взялся за меня.
— Ох, покарает тебя бог, Иван Аркадьевич, хоть ты и учитель!
И снова сзади приглушенный шепот людей: «Ох, как нехорошо! Как нехорошо! Пожилой человек — и такое…»
— Ты что-то путаешь, сосед! — оторопело и, может быть, потому не очень убедительно начал я. — Не ты ли сам вчера просил меня приютить Тоню с сыном?
Только Чуклаев и рта не давал раскрыть, забивая мой голос своим напористым:
— И не говори, смутил, смутил ты, Иван Аркадьевич, племянницу. Нехорошо это — чужую семью разбивать, родню ссорить. Только попомни мое слово — радости тебе от этого не нажить, ты человек грамотный, партейный, а поступаешь…
Не отвечая, я пошел со двора.
Хотелось идти медленно, с достоинством, но я невольно убыстрял шаги, словно бесстыдные слова чуклаевской напраслины подталкивали меня в спину.
Я сидел перед