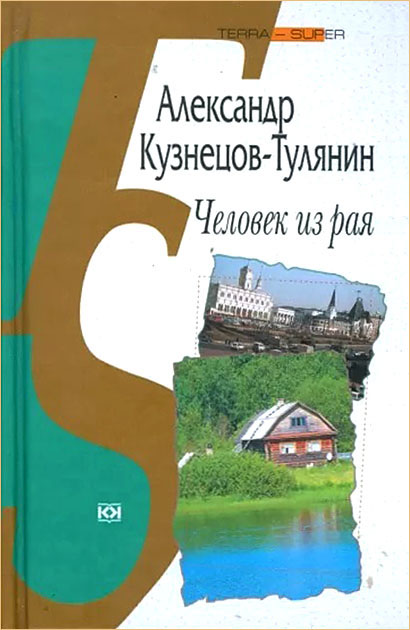ней и своим пристальным взглядом ловила ее расползающийся по пространству взгляд, который все-таки иногда фокусировался, так что возникала иллюзия, что девочка смотрит Нине в глаза не то что осмысленно, а с некой таинственной проникновенностью.
«Боже! — испуганно думала тогда Нина. — А ведь что-то есть…»
Девочка Анжела умерла первой в ее палате, затихла в какой-то момент и не издавала ни звука час, два, пока Нина не спохватилась. А еще через месяц умер мальчик на соседней кроватке — такой же малоподвижный Гоша. Эти странные существа выпадали из лодки жизни то ли на пути оттуда сюда, то ли отсюда туда. На небольшом кладбище, которое расположилось за изгородью, то и дело появлялись свежие деревянные кресты.
Нина несколько лет проработала в этом заведении. Она и институт закончила, и даже сделала что-то вроде карьеры — стала заведующей отделением. И так бы, наверное, в ней та ее монашествующая половинка и взяла верх, так бы она и срослась окончательно с этой своей долей одной из «матерей Терез», если бы как-то весной в детдом не приехали корреспонденты.
Все еще востребованная, хотя уже успевшая запылиться тема: налепить на газетную полосу фотографий уродов, чтобы выжать слезу у преданных читателей. С одной из кроватей сняли сетку, Нину усадили с краю и попросили изображать кормление из ложечки долгожителя детдома — ластоногого Миши, одеяло с которого тоже сняли, чтобы понагляднее изобразить уродство. Один корреспондент фотографировал их. А попутно другой корреспондент, уже в довольно зрелом возрасте, — лицо большое, морщинистое, и голова несоразмерно плечам большая, волосы как-то мохнато растрепанные, с обильной проседью, и смешно лопоухий, — он задавал Нине немного странные вопросы, вроде такого: «Что же по вашему нужно делать с родителями-отказниками — стерилизовать?» Но сразу было видно, что и себя он не слушает, и Нину не слушает. В нем сквозило что-то такое, что было выше рутины повседневной жизни, и это чувствовалось в нем, в его умных глазах, в свободных движениях, в уверенности, даже надменности, с которой он говорил до этого с директором — степенной Инессой Георгиевной… И еще был длинный элегантный шарф вокруг шеи, совсем как у папы, и немного старомодный темный костюм, но тоже как-то элегантно поданный — расстегнутый, чтобы можно было фривольно держать руку в кармане брюк, в то время как другой рукой — свободно жестикулировать.
А потом Нину послали в областной центр, в эту самую редакцию, за обещанной пачкой газет со статьей. И там ее встретил этот самый корреспондент Алексей Николаевич Коренев, потрясающе мудрый и как-то умеющий быть небрежно элегантным в своей неновой одежде. Случайно, попутно, ему нужно было куда-то идти — они с ним прошли несколько кварталов в сторону автовокзала. И опять же случайно, попутно, завернули в кафе, потому что до автобуса было сорок минут, выпили по бокалу вина и съели по мороженому, да еще он прочитал ей два стихотворения, как оказалось, из его собственного поэтического сборника. И сборник тоже оказался у него с собой, в боковом кармане костюма. Он тут же подписал. А еще через неделю Нина привезла в редакцию свою первую заметку о медицинском оборудовании, которое для их детдома выделили областные начальники. И заметка, в которой даже запятой не тронули, вскоре вышла в уважаемой газете. Несколько номеров газеты с заметкой, а заодно портфель с шампанским и недорогими, но сытными закусками Алексей Николаевич Коренев сам привез в детдом.
Через Коренева Нина попала в мир, о котором имела очень смутные представления. И поэтому заранее она не могла знать, какие в подземелье под названием журналистика светят огоньки, а заодно какими смрадами оно застится.
В новой жизни с новым мужчиной, который по возрасту превосходил ее в два раза, она воочию могла наблюдать, как понемногу набираются тысячи тех мелочей, из которых лепится, рисуется, вышивается человеческое бытие. Так что через некоторое время уже вполне просматривалась-угадывалась некая неизбежность будущего, называемая судьбой, в которую Нина безоговорочно верила — до такой степени, что ее никогда не покидало ощущение, будто не она сама, а Некто старается за нее, вышивает ее личное полотно жизни. Так ведь, оказывается, и всегда вышивал и будет впредь вышивать — от первых тугих петелек детства до растрепанной бахромы старости. Но одновременно в этом неизбежном, роковом была та надежная предрешенность, которая располагала к успокоению. Появился у нее мужчина, и в нем слились воедино и успокоились обе ее женские сущности — ее неистовый ищущий перемен зверек и ее страшно пугающаяся этих же перемен монашка.
Что за жизнь была у них с Кореневым… Если бы не ее врожденная неспособность к бунту и самопоедающий стоицизм, она, может быть, и сбежала. Но у нее и в помыслах не было бунтовать. Они ютились по каким-то углам. То Кореневу удалось по знакомству застолбить комнату в заводском общежитии, то снимали комнату за бесценок у доброй пожилой тетки в коммуналке, то жили за городом на даче у одного из коллег. Что поделаешь, квартирка Коренева давно отошла к одной из прежних жен. Но у него было солидное «внематериальное пространство», казавшееся Нине таким обширным и надежным, что, втянутая в него, несмотря на бытовые мытарства, она чувствовала себя на тверди. Вот чего не было никогда в Кореневе — так это сомнений ни по какому случаю и поводу. Но, пожалуй, такая решительная настроенность мужчины на жизнь больше всего и привлекает женщину. Его мудрость, — а все, что он делал, или говорил, или писал, для Нины светилось непререкаемостью и мудростью, — его мудрость была самой надежной опорой для нее.
На излете их четвертой зимы они переехали в старый трехэтажный дом на улице Преображенской. Как оказалось, Коренев был здесь прописан на девяти метрах у двоюродной бабки. Бабка отмучилась на этом свете, и Кореневу с Ниной достался вместо девяти метров целый этаж в старом купеческом особняке — пять комнат, длинный просторный коридор, кухня и пара глухих кладовок, — просто потому, что дом был крайне ветхим, бесперспективным, не подлежащим сносу, потому что какому-то чиновнику взбрело в голову вписать эту развалюху в реестр памятников истории и городской архитектуры. Вот почему все жильцы, за исключением нескольких горемык, которым некуда было деваться, разбежались отсюда давным-давно в поисках благоустройства.
Нина никогда не забывала своего первого впечатления от дома — а первое, может быть, и есть самое верное. Дом ей показался живым, он жил-старел-болел, как живой, он дышал, как живой: что-то потрескивало в нем, и на чердаке будто кто-то шевелился, будто мягкий