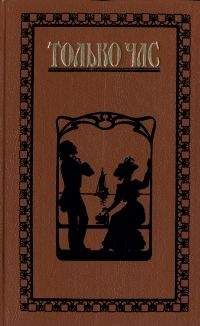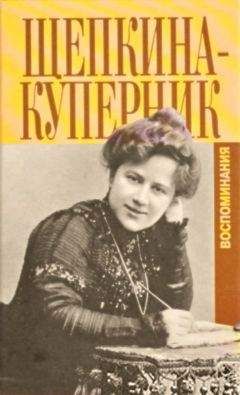Лита хоть и не помнила матери, но из рассказов бабушки создала образ прелестной молодой женщины, нежной, доброй, хранила о ней память прямо с благоговением, про себя не называя ее иначе как «мамочка». Ей даже мысленно приятно было произносить это ласковое имя, которого не хватало одинокой детской душе.
С находкой книг ей стало житься легче. К ней в доме привыкли, как привыкли бы, вероятно, к котенку или собачке: она никому не мешала. Агния считала, что исполняет по отношению к ней свой долг, и совершенно не интересовалась внутренней жизнью ребенка, да вообще понятие «внутренней жизни» было Агнии чуждо — жизнь сводилась для нее ко сну, еде, расчетам и молитвам.
Становилось все теплее и теплее. В окнах, выходящих во двор, выставили рамы; в саду красная верба покрылась пушистыми шариками и зазеленела травка.
Теперь у Литы появилось новое развлечение, тем более занимательное, что оно было сопряжено с «опасностью» и «риском».
Когда в девять часов дом замирал, Лита надевала калоши, накидывала теплый платок и потихоньку через окно уходила в сад.
Никому никогда не приходило в голову после девяти часов прийти и взглянуть, спит ли она, не разметалась ли, не жарко ли, не холодно ли ей, — у нее убирали свечу, и этим дело кончалось. А ей не спалось. Начитавшись за день книг, наполнявших юную головку целым миром разных картин, вопросов, фантазий, она просто не могла лежать спокойно. А в ставни, в прорези сердечком, смотрела луна, и в саду казалось так чудно… Лита убедилась, что ставень не запирали, а только затворяли. Она открывала окно, оглядывалась и с бьющимся сердцем ставила сначала одну ногу на выступ фундамента, потом другую, потом тихонько спрыгивала на мягкую, чуть влажную землю — и исчезала в саду.
Турки она не боялась — она с ним давно подружилась, принося ему разные лакомые косточки и лаская его, так как очень любила собак и знала, что они не трогают, если их не бояться и не дразнить. Она и теперь всегда относила ему кусок хлеба и гладила по большой голове, а он благодарно лизал ей руки, тихо повизгивал и рвался за нею, пока позволяла цепь.
Свела она дружбу и со старым ночным сторожем, единственным, кто мог бы «донести» на нее; старик твердо помнил, что он должен сторожить дом от воров и разбойников, а раз барышня не принадлежит к их числу, так и пусть гуляет на здоровье. И когда она его, ластясь и конфузясь, попросила: «Мне можно погулять по саду, Арефьич?» — тогда он удивленно ответил: «Твой сад-то, гуляй на здоровье…»
И она не боялась бегать по большим аллеям, освещенным луной, смотреть на узоры и переплеты черных теней на земле и вдыхать пряный запах мокрого листа и молодой травы под мерный стук колотушки Арефьича. Иногда она бежала к старику и говорила:
— Арефьич, можно с тобой походить?
— Чего ж, ходи, Господь с тобою! Места всем хватит! — отвечал Арефьич, и они шагали вместе, причем Лита приставала к Арефьичу с разными расспросами: его она тоже не боялась.
Арефьич рад был развлечению в свои длинные ночи и охотно рассказывал Лите все, что знал, пыхтя трубкой и ворча иногда, как старая нянька:
— А ты в воду-то не ступай, видишь — лужа?
Знал Арефьич много, жил он при рябининском доме с незапамятных времен, сперва кухонным мужиком, потом дворником и уж потом, когда ослабел для другой работы, ночным сторожем.
— По ночам-то я все равно не сплю! — объяснял он Лите. — Хоть ты мне целковый заплати — не засну, и шабаш! А попробуй уснуть — сейчас это он меня давить начнет.
— Кто он?.. — спрашивала Лита с интересом.
— Тьфу, тьфу! Не к ночи будь помянут: известно кто — анчутка!
Что такое анчутка, Лита уже смутно знала. В анчутку верил весь рябининский дом, и Марина неоднократно внушала Лите:
— Закрывай, матушка, на ночь все, что есть: и ящики, и комоды… Храни Бог бутылку открытой оставить или там банку с вареньем: сейчас анчутка влезет и все перепортит.
Таким образом Лита освоилась с этим понятием. Арефьич дополнил ее сведения рассказами о том, что надо в конюшне держать козла, а то он всех лошадей перепортит.
В таких разговорах незаметно проходило время. Иногда они разнообразились воспоминаниями о прошлых годах, о том, как бывало весело в рябининском доме, когда барышни молодые были. Как устраивались здесь катанья с гор, гаданья зимой, летом качели, костры, поездки на лодках — во всем этом Арефьич еще принимал участие. Рассказывал он про мать Литы, Мелитину Дмитриевну, какая она была приветливая и любезная и как, бывало, всегда его звала: «Дяденька Арефьич», и никогда, чтобы криком или тычком, а все так: «Голубчик, Арефьич, пожалуйста да спасибо»…
— А тетиного жениха ты помнишь? — спросила Лита.
— Это Евлалии-то Дмитриевны? Как не помнить. Господи! Еще как обручение-то отпраздновали, пять целковых мне отвалил! Ну и молодец же был! Все, бывало, на гитаре играл и песни пел. Не по-нашему, не по-русскому больше пел, а, бывало, как запоют разом с барышней-то, с Евлалией, хоть и не понимаешь, а так жалко станет, ажио слеза прошибает. Все пели да катались. Ровно два ребенка малых. Да и то: ей-то девятнадцатый годок пошел, а ему-то, пожалуй, годика на три поболе… Да вот не судил Бог…
И опять задумывалась Лита, и сердце горело в ней жалостью к судьбе этих бедных, веселых, счастливых людей, так любивших друг друга.
Уже бледнело небо и высоко-высоко стояла луна, когда она возвращалась к себе и крепко засыпала.
Как-то раз в одну из ночей, когда луна особенно ярко светила над садом, Лита по своему обыкновению бродила по саду. Она взяла у Арефьича колотушку — она иногда забавлялась этим, пока старик курил и полудремал, сидя на лавочке под липой. Эта ночь напоминала ей Киев — так ярка была луна, так ласково голубело высоко над головой темное небо и так проплывали и таяли белые облачка с темно-золотистыми краями мимо полной луны, окруженной точно радужным сиянием.
Невольно взглядывала Лита на блестевшие голубым светом окна левой половины. Лунный свет падал на стекла, и казалось, будто за ними, за этими белыми занавесками, идет какая-то таинственная жизнь, не такая, как во всем доме.
И вдруг одна из занавесок зашевелилась.
У Литы кровь отлила от сердца — так она испугалась. Она невольно отодвинулась в тень кустов сирени, на которой уже набухли почки, и замерла, не сводя глаз с окна. Тут же она сказала себе, что это ей померещилось: ведь все давно спят… Но занавеска опять пошевелилась, затем отдернулась — и распахнулось окно.
В окне стояла женская фигура, тонкая, вся в черном. Голова ее была низко опущена и в тени, Лита видела ясно только две сложенные худые белые руки, на одной из которых блестели два золотых обручальных колечка, и этот блеск приковал к себе все внимание девочки, которая затаила дыхание и боялась шевельнуться.
«Это и есть тетя Евлалия», — подумала она.
Тетушка подалась немного вперед, разомкнув руки и взявшись ими за подоконник, слегка выставилась из окна. Она подняла голову, и луна ярко осветила ее лицо.
Это было прекрасное, тонкое, бледное лицо с казавшимися неимоверно большими темными глазами. Темные волосы, разделенные пробором на две половины, падали двумя тяжелыми косами, как на старинных картинах. Лите вдруг вспомнилась панночка из гоголевской «Майской ночи»: верно, и та была такая же бледная, до прозрачности бледная, прекрасная и печальная! Глаза ее были подняты к небу, и в них точно застыли слезы. Она несколько минут, не отрываясь, смотрела на луну, потом всплеснула руками, заломила их, запрокинула голову и с тихим стоном исчезла, как видение, наполнив душу девочки восторгом и страстным сожалением. Лита бросила Арефьичу колотушку и ушла к себе, но долго не спала. И предмет ее дум, получивший внезапно облик живой, бледной красавицы, еще больше стал занимать ее воображение, и она все мечтала о том, что бы могло сделать тетю Евлалию не такой печальной.
Действительно, могло показаться непонятным даже и взрослому и думающему человеку, как это Евлалия Рябинина, богатая невеста, красавица, могла так по доброй воле уйти от мира, хуже, чем в монастырь, потому что в монастыре все-таки есть и живые люди, и дело, и работа, тогда как здесь, кроме своих четырех стен и старой няньки, Евлалия не видела никого и ничего.
Многие толковали об этом, охали, ахали и наконец предоставили Евлалию ее судьбе, решив, что «бедняжка тронулась в уме», и на этом успокоились.
Однако ничего подобного не было: Евлалия совершенно не была помешанной, скорее ее можно было назвать душевнобольной, и нуждалась она в излечении, но не находила его.
Евлалия получила от жизни страшный удар в ту пору, когда она еще недостаточно окрепла, чтобы вынести его стойко и не погнуться под ним, как нежное растение под сильным порывом ветра.
Когда на ее глазах умер трагической смертью жених, за минуту до того смеявшийся и смешивший ее веселыми шутками, она этого сразу даже понять не могла от ужаса. Но когда поняла, что это — смерть, что ее жизнерадостный, милый Володя больше не существует, а кругом по-прежнему ходят люди, сияет солнце и равнодушно смотрит на землю голубое небо, она впала в безумное отчаяние. Полудетская привязанность ее к Володе, с которым они в детстве еще вместе играли, приняла теперь характер поклонения его памяти, тогда как всё и все остальные сделались для нее ужасны.