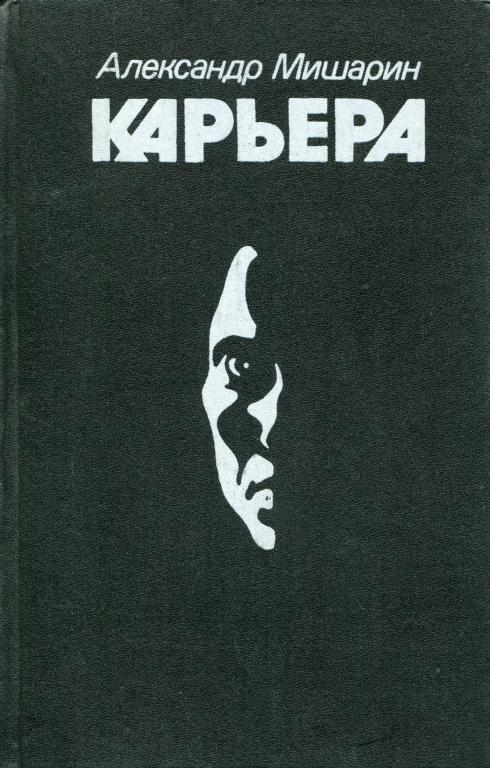почти выбежал на вечернюю, отдыхавшую после дождя, потемневшую улицу.
Его объял теплый, тихий, бархатный воздух. Он почувствовал себя неожиданно, неоправданно счастливым. Захотелось заорать, как в молодости, изображая или пьяного или сумасшедшего. Да так заорать, чтобы распахнулись окна, высунулись соседи… бежал бы милиционер… а в последнюю минуту скрыться вместе с ребятами, давясь от смеха, перепрыгивая через какие-то кустарники, мчась через проходные дворы, сигая через деревянные заборы… И оторвавшись от погони, счастливо достать последнюю початую бутылку и пустить ее по кругу. Потные лица, сияющие в вечернем свете белые молодые зубы, раннее братство. И — обязательно! — чтобы на третьем этаже спасительного старого дворика хлопнула бы форточка с приговором: «Хулиганье!». А еще надо было остановить взбесившегося от ночной свободы Тимошина, который норовил бы запустить обломком кирпича в захлопнувшееся темное окно.
Около «Домжура» он увидел, как Тимошин вышел из длинной, черной машины и, что-то быстро и ворчливо сказав шоферу, огляделся, перед тем как войти в здание. Корсакову не хотелось, чтобы он раньше времени увидел его, и он попросил таксиста:
Молодой, фиксатый парень коротко глянул на него и выключил зажигание.
— О, хозяин жизни! — зло сказал таксист, кивая на Серегу. — Небось, большая шишка?
— Немалая, — Кирилл надел теневые очки.
Парень усмехнулся.
Кирилл Александрович дал ему на чай рубль, но парень даже не посмотрел на него. Он был весь напряжен. «Как нож!» — подумал Корсаков, когда увидел живой острый кадык на тонкой, плохо выбритой шее.
— До свидания, — сказал он, выходя из машины.
Шофер не ответил.
«Давить таких… надо!» — услышал Кирилл, когда «такси» рвануло с места.
3
Тимошин сидел за ресторанным столиком (в нише за складными деревянными перегородками!), как в президиуме.
— Только учти… У меня нет денег! — предупредил он, когда они обнялись, неловко ткнулись щеками, носами по новой, почти государственной моде. — Ирина считает, что они мне не нужны?!
Тимошин хохотнул, но Кирилл Александрович почувствовал, что ему все-таки неудобно из-за этого обстоятельства. Оно словно напоминало о прежнем, вечно безденежном, голодном Сереге. Поэтому он старался стать солиднее, говорил низким, с хрипотцой, голосом.
— Ну, у тебя и хватка! Вытащить меня — в ресторан?! — Тимошин закатил глаза, раскладывая закуску по тарелкам, угощая, чувствуя себя хозяином, принимавшим гостя. Из-за того, что платить за ужин надо было Кириллу, это показалось ему особенно смешным.
— У капиталистов научился? Молодец! — продолжал умеренно-благодушный Серега, поднимая рюмку. — За встречу! Чтоб все были здоровы… И чтобы войны не было, — скороговоркой произнес он тост, а когда выпили, закрыл глаза и смешно сморщился. Словно прислушивался, как водка проходила по пищеводу.
— Фу! Прелесть… — глуповато и по-детски улыбнулся он и, перегнувшись через стол, сильно и неловко хлопнул Кирилла по плечу.
— Ну? Где тебя еще ждет такая «вечеруха»? Со старым товарищем! С такими маслятами? В каком Лидо? В каком Лиссабоне?!
Он расстегнул воротник рубашки, ослабил галстук — темный к темному, не бросающемуся в глаза, костюму, и, одновременно погрузнев, внутренне ощутимо напрягся. «Мол, можно и к делу. Ну»!
Глядя на его тускло-синеватые глаза, цепкие, ленивые и отдаленные, Кирилл Александрович вспомнил мальчишку-таксиста. Ошибся этот нервно-озлобленный сопляк. Отец Тимошина был не сталинский туз, а обычный железнодорожный рабочий на Вологодчине. И приехал Серега в Москву с золотой медалью и по-волчьи жестким прикусом — здесь и моя часть, часть Москвы, науки, благ, власти. И поступил он в университет без малейшего блата, растолкав начинающих «стиляжить» детей генералов, внуков депутатов и академиков. На нем было так крупно написано — «человек из народа», что вся, еще того, сталинского времени, приемная комиссия воспринимала это как самый большой блат, как самое высшее указание.
— Звонил, звонил я… в твои кадры, — сразу беря быка за рога, заговорил Тимошин, с аппетитом, почти жадно закусывая. — Потеряли они твое дело… Ну, что смеешься? И на старуху бывает проруха! Говорят, раз в десять лет такое бывает. Но бывает!
Он развел руками и захохотал, благодушный и недоверчивый.
— Не беспокойся! Найдут, — коротко и жестко сказал он и отодвинул тарелку. Короткий, обидный блеск мелькнул в его взгляде, мол, не смотри мне в тарелку. «Я — другой… Другой! Сытый. И не вздумай напоминать мне о прежних местах в иерархии молодости. Если умный, поймешь…»
— А я и не беспокоюсь. Найдут, конечно! — Кирилл Александрович ел вяло, аккуратно, по привычке старательно пережевывая. Он почувствовал, что Тимошин слишком пристально наблюдает за всеми его действиями.
— Слова не сказал… А прямо в глаза бросается, как ты изменился.
Кирилл Александрович поднял на него взгляд…
— Смотри, сколько баб в зале! Да еще каких баб… А ты даже шеей не крутишь, — чуть смущенно, а от этого неприятно-откровенно усмехнулся Тимошин.
Корсаков оглянулся и через двери увидел в синевато-темном облаке дыма небольшой, плотно набитый зал… Одно, другое женское лицо… Чьи-то хорошо причесанные черные волосы и удивительные… глаза…
Они были привычно, издавна знакомые…
— Ну, вот… так-то лучше. Замер аж! Прямо — в стойку! — с облегчением засмеялся Тимошин.
— Соседка… — машинально ответил Кирилл. Удивился: «Неужели можно быть такой? Навсегда молодой?»
Она же была старше его… Конечно! Кирилл был еще совсем мальчишка, лет пятнадцати, а она уже тогда была яркая, молодая, независимая женщина. Иногда он видел ее с как-то по-особому спортивными, длинноногими, из другой, беззаботно-знаменитой, жизни парнями. То ли спортсменами, то ли мотогонщиками… А может, летчиками? Но старше, старше его! Самостоятельнее, сильнее! Независимее.
Она потом мелькала на Московском фестивале, пела по телевидению. Фамилия у нее была, кажется, армянской. Может быть, по мужу? Нет, скорее это была ее девичья фамилия.
Женщина тоже смотрела на него, очевидно, привлеченная его растерянно-живым взглядом.
Она была, судя по всему, неудавшаяся певица. Взрослое Кириллово знание подсказывало ему, что она несчастлива и в обычной жизни. Сейчас он уже видел, что она, конечно, и постарела, и хоть одета с прежней претензией, но, как раньше говорили, красота ей была не по