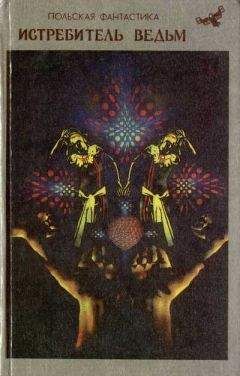пойду! – опешил друг. – Ты зачем сюда столько пёрся? Чтоб спать?
Молчали. Свет электрической лампочки выхватывал из темноты только внутренности беседки: поблескивающие лаком бревенчатые стены, добротный стол, весь в следах от порезов, разбросанную по столу снедь, сидящих друг против друга людей.
Из темноты доносился непрерывный треск кузнечиков, изредка кричали незнакомые птицы.
– Когда это всё кончится, а? – спросил Сокóл, глядя перед собой.
– Чё?
Сокóл, не поднимая головы, неопределённо взмахнул рукой.
– Слышь, милый мой, – наклонился к нему Зёма. – Ты б забыл это всё понимать… А? Ну я тя умоляю. Ну ведь не понять ведь этого умом! Ну не понять! Даже стараться не надо! Ты ж, Трамп тя раз дёрни, только от того и переживаешь постоянно, что всё и за всех понять пытаешься. А умишко-то у тебя – вот таку-у-сенький…
Сокóл кивнул.
– Ну а делать-то что?
– Трампец… «Что делать?» Ты меня слышишь вообще? Живи себе спокойно. Прям ща начинай! Делай как чувствуешь, ни на кого не оглядывайся… Детей вот такими же неврастениками расти! Ты, вон, на себя посмотри – красный весь, глаза навыкате. Ты ведь ещё лет пять так попереживаешь – и инсульт какой-нибудь словишь… А наши развитые друзья? На них и смотреть любо-дорого! Ровные, гладкие… Они ж потому так долго живут, что всегда счастливы!
– Так зачем, зачем жить-то? – Сокóл поднял глаза и прослезился.
– Нет, это что-то невероятное… – протянул задумчиво Зёма. Какое-то время он думал. – Слышь! А хочешь уже завтра с самого утра – встать счастливым?
В наступившем молчании треск кузнечиков нарастал очень быстро, так, что вскоре превратился почти уже в рёв. Казалось, что вот-вот тонкая стеночка света не выдержит, и темнота вслед за рёвом вновь прорвётся оттуда.
– Ты вот завтра проснись – как будто тебя ничего не волнует! Ну, понятно, кроме того, как позавтракать повкуснее, какую приманку выбрать, как будет мотор работать – хорошо ли, устойчиво ли. Как будто ты не помнишь ничего про воров… Ну а вернее, как будто знаешь, что есть специальные люди, которые должны о ворах волноваться, должны их ловить и наказывать, и что есть специальные люди, которые должны волноваться о Путине, и о нашей внешней политике, и об Украине, и о газе и нефти… Как будто знаешь, что, когда кто-то плачет – это его личное дело, и что, когда кто-то первый канал громко смотрит, – это тоже тебя не касается… Ну а уж когда кто-то своим телом у обочины торгует, – что тебе в это и вообще запрещено вмешиваться, (потому что ведь он – самодостаточная личность, а его тело – его личная собственность, и только ему самому решать, что ему со своим телом лучше поделать)…
Зёма говорил это спокойно и просто, а Сокóл – вдруг чуть не расплакался. Перед его глазами и всю-то дорогу как живое стояло милое лицо, расцвеченное лучами усталости и страха, когда же Зёма вслух заговорил о бедной девчонке, Сокóл почему-то почувствовал прилив какой-то безысходной, какой-то разрывающей любви. Он смотрел на друга и вряд ли понимал что-то из того, что тот говорит – только чувствовал, что теперь не одинок, что вот: теперь его понимают…
Негнущейся рукой он поднёс банку к губам.
– Дак как не волноваться-то? – медленно произнёс он. – Если никому ничего не надо? Чё за хрень ты несёшь?
– Да! Да! Именно! Волноваться не надо. Надо делать. Потихоньку, осторожненько, в рамках закончика… Просто делать, а не волноваться.
– Ну да, начнёшь делать – и бабах, глядь, а ты уже в камере! – едко усмехнулся Сокóл. – Классно, да?
– Ну да, да! Именно! – радовался его оживлению Зёма.
– А козлы какие-то в это время будут по Куршевелям и по Ниццам на джетиках летать. Да? Так? – Сокóл в один присест ухайдакал баночку и облокотился о стол. – А я буду в тюрьме сидеть. За правое дело. А девочка будет их дальше обслуживать. И детей перед входом в больницу будут бросать, чтоб они умирали. Так?
Сокóл часто дышал, в его воспалённых глазах разгоралась правда.
– Да я ж те про это и говорю! – подыгрывал гаденький Зёма. – Ты просто никогда и понять-то не сможешь, что добро разное бывает! У вора – своё, у девочки – своё, у тебя – своё, у тех мужиков из кафешки – своё, и у англичанина с китайцем, представь себе, тоже своё!
– Разное? – заревел, приподнимаясь, Сокóл. – Вот из-за таких, как ты, и льются детские слезинки! Вам бы понять, что нельзя просто делать гадости, вам бы самим себя научить для начала! Нет, вы ж всё других учите, вы Ѣ, ѢѢ, всё в чужих глазах соринки выкапываете! Вы своё бревно сначала распилите, а потом уж других учите, как им жить!
Он гневно открыл новую банку и в одну минуту сделал с ней то, что уже давно замыслил сотворить со всеми гадами, заполонившими планету. А Зёма… Зёма тоже разошёлся (правда, всё равно было не понять, в шутку ль, всерьёз):
– А… Слезинку вспомнил, ѢѢ! – завопил он в тон другу, при этом подняв руку и показывая пальцем на Сокола, так, что палец почти что упирался тому в нос. – Так ты и есть главный убийца на свете! Ты – самое главное зло!
– Я? Я? – орал дико Сокóл.
– Да, ты! Достоевед ты хренов! Ведь ты, козлина этакая, ты из-за своего этого ребёночка всегда забываешь, что в этом деле ещё и другая сторона есть! Что помещик – он тоже, Ѣ, человек! И что он тоже добрый! Пойми ты, добрые люди – везде одинаковые, но добро-то везде разное! Ведь у помещика тоже ребёночки есть! А ты, ты что? Ты ж, когда бежишь своему ребёночку помогать, ты что, Ѣ, делаешь, а? Ну скажи мне, что делаешь? А я тебе скажу, рожа ты наглая: ты, ребёнку своему помогая, всех помещиков, всех их детей, всех женщин, всех матерей, ты их всех вырезаешь! Ты их насилуешь и убиваешь, ты их всех режешь на куски! Потому что они ведь все – зло! А со злом ты ничего делать не обучен, кроме как уничтожать его на хрен! Вот кто ты такой!
Сокóл, слушая Зёму, ёрзал по скамейке, то сжимая кулаки, то потирая истерически руки. Казалось, что вот-вот, вот уже, вот – он либо вскочит и побежит, либо набросится… Но только Зёма не замечал этого (или видел уже тысячу раз?). Как оратор, взобравшийся на трибуну, он махал руками, словно пытался залезть ещё выше.
– У тебя ж всё – до конца!