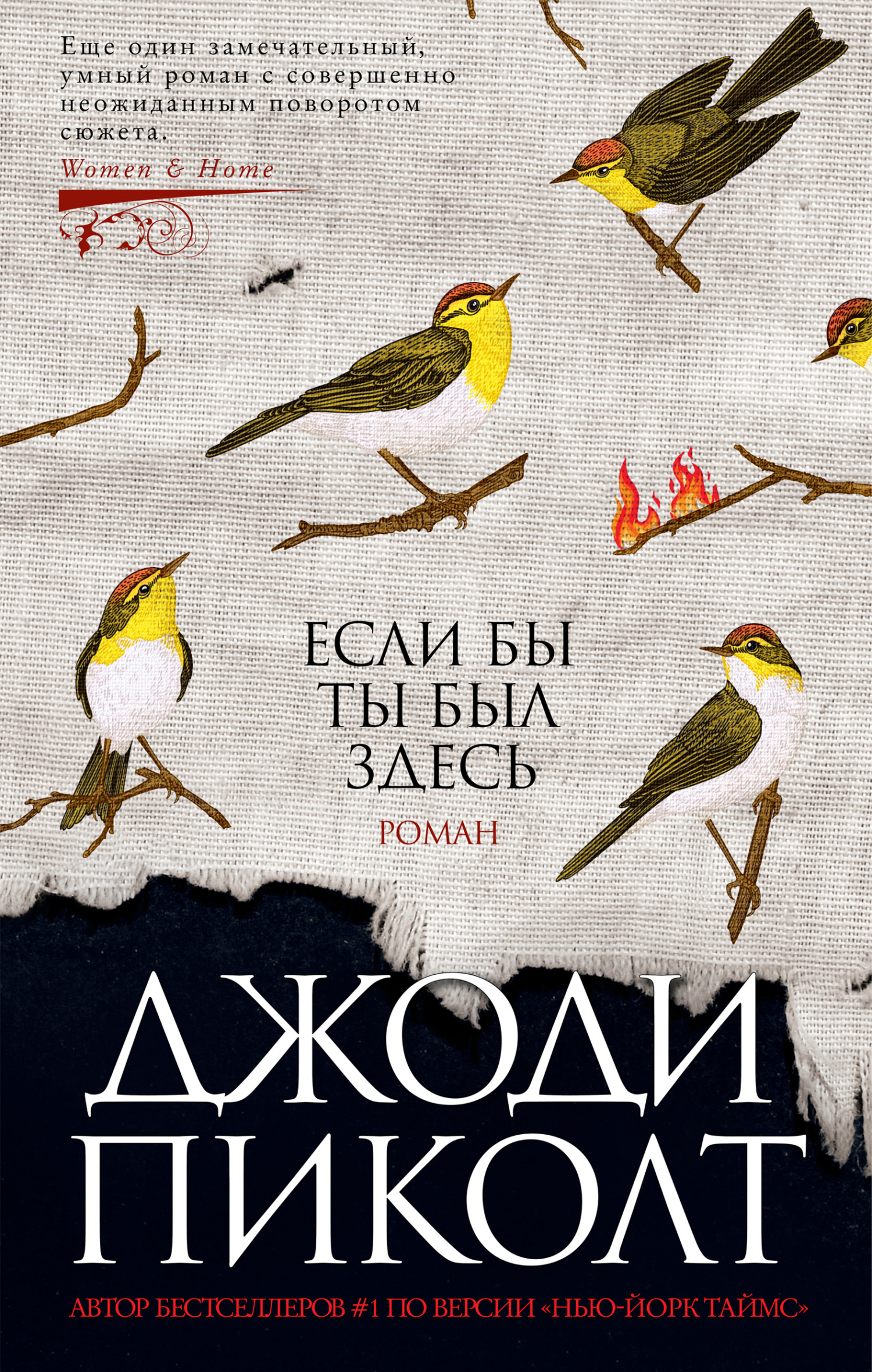ты пострадаешь.
– Отношения так не работают, – возражаю я. – Это как если бы… Как если бы ты прятал у себя прекрасное произведение искусства, потому что боялся, что, попади оно в музей, кто-то его непременно испортит. Ты бы хранил его в сейфе за семью замками, но это не принесло бы тебе ни радости, ни красоты.
– Я ничего не знаю об искусстве, – тихо признается Габриэль. – Но что, если ты будешь защищать это произведение искусства изо всех сил просто для того, чтобы взглянуть на него еще хотя бы раз?
От его слов у меня по спине бегут мурашки. Поэтому вместо ответа я расстегиваю молнию на своем спальном мешке и залезаю внутрь. Он пахнет мылом и солью, как Габриэль. Я ложусь на спину и устремляю взгляд в ночное небо. Голова все еще немного кружится от рома. Габриэль раскатывает свой спальный мешок и ложится поверх него, скрестив руки на животе. Макушки наших голов почти соприкасаются.
– Когда я был маленьким, отец учил меня ориентироваться по звездам. Так, на всякий случай, – бормочет он.
Я чувствую, как дрожит его голос, и думаю, как много он рассказал мне сегодня о своей жизни, умолчав лишь об одном: почему он фермер, а не гид.
«Планы меняются, – вспоминаю я его слова. – Дерьмо случается».
– Ты страдал географическим кретинизмом? – Я пытаюсь придать своему голосу максимальную легкость, но у меня ничего не выходит.
В тишине слышно шипение огня.
– Все, что мы видим на ночном небе, произошло тысячи лет назад, ведь, чтобы добраться до нас, свету требуется очень много времени, – продолжает Габриэль. – Мне всегда казалось странным… что моряки намечают свой будущий путь по картам прошлого.
– Вот почему я люблю искусство. Изучая провенанс любого произведения искусства, погружаешься в историю. Узнаешь, что люди прошлого хотели оставить будущим поколениям.
Небо словно усыпано блестками. Не помню, чтобы прежде я видела так много звезд. Я думаю о потолке на вокзале Гранд-Сентрал и вспоминаю, как мы с отцом его реставрировали. Мне трудно различить какие-то созвездия, потому что на экваторе видны звездные скопления как из Северного, так и из Южного полушария. Но вот я нахожу Большую Медведицу. А также Южный Крест, обычно скрытый от меня за горизонтом.
Мне словно удалось заглянуть в секретный тайник.
– Южный Крест невозможно увидеть в наших широтах, – тихо говорю я.
Я немного теряюсь, как будто вся планета сбилась с курса.
Что, если мне пришлось проделать весь этот путь только для того, чтобы взглянуть на все с иной точки зрения?
Через мгновение Габриэль спрашивает:
– Ну как, тебе понравился твой день рождения?
Я перевожу взгляд на Габриэля. Он лежит на боку. Пока я смотрела на небо, он смотрел на меня.
– Лучший день рождения в моей жизни.
Кому: DOToole@gmail.com
От кого: FColson@nyp.org
Иногда я задаюсь вопросом: буду ли я когда-нибудь вновь делать аппендэктомию? Я ведь хирург. Я все исправляю. Инфекционное поражение желчного пузыря? Я могу помочь. Грыжа? Вам тоже ко мне. Если мои пациенты и попадают в отделение реанимации и интенсивной терапии, то лишь на время, из-за осложнений после операции, которые вполне устранимы. Но ковид не оставляет никаких шансов. Я просто сохраняю статус-кво, и то если повезет.
Я ведь ординатор, а это значит, что я должен учиться, но я ничему не учусь.
Я хорошо справляюсь со своей работой. Но уже не уверен, что эта работа мне подходит.
Три дня назад, когда я уходил из больницы, 98 % коек в ОРиИТ были заняты. Все мои пациенты получали оксигенотерапию и находились при смерти. По дороге домой я позвонил отцу, узнать, как у него дела. Ты знаешь, он ведь голосовал за Трампа, так что, возможно, мне не следовало удивляться его словам о том, что данные по ковиду завышены и что карантин – лекарство похуже болезни.
Я понимаю, что не все могут наблюдать вирус своими глазами. Но нельзя при этом закрывать на происходящее глаза.
Я повесил трубку.
Черт! Я только что вспомнил о твоем дне рождения.
Мою маму часто спрашивали, как она «со всем этим справляется» – быть женой, матерью и одним из самых известных фотографов своего времени. В реальной жизни ответ был прост: она ни с чем не справлялась. Почти все дела ложились на плечи моего отца, и, если положить на чаши весов материнство и ее карьеру, то последнее сильно перевешивало. В интервью она всегда рассказывала одну и ту же историю о том, как в первый раз повезла меня к педиатру. Она упаковала меня в зимний комбинезончик, загрузила в машину свой ноут, складную коляску, сумку с подгузниками и уехала, оставив меня в переноске на полу кухни. Только на парковке у поликлиники мама поняла, что взяла с собой все, кроме собственного ребенка.
Моя мать никогда не рассказывала эту историю мне самой, но в Интернете я тысячу раз видела, как она это делает на публике. Я точно знала, в какой момент она немного помолчит для пущей драматичности, где криво усмехнется, а где виновато закатит глаза. Это был настоящий спектакль, а моя мать никогда не выходила из роли. В конце интервью они с репортером всегда смеялись над этой историей, как бы заключая: ну что уж тут поделаешь.
«А что насчет ребенка? – привыкла спрашивать про себя я, будто была простым сторонним наблюдателем. – Над чем вообще тут можно смеяться?»
Финн,
прошлой ночью ты мне снился. Все происходило как наяву. Кто-то похитил меня и накачал наркотиками. Я сидела в каком-то подвале без окон и дверей, откуда невозможно было сбежать. Я была к чему-то привязана – то ли к столбу, то ли к стулу. А потом вдруг появился ты. В костюме. Мне было не видно нижней половины твоего лица, но я знала, что это ты – по глазам и запаху твоего шампуня. Ты просил меня не засыпать, чтобы ты мог вытащить меня оттуда, но я была не в силах разлепить глаза. Потом я поняла, что мы не одни. С тобой была еще женщина, тоже в костюме.
Такое чувство, словно меня одну не позвали на эту вечеринку.
Где-то в середине нашего семичасового похода к вулкану Сьерра-Негра я начинаю задаваться вопросом: почему Габриэль решил, что подобный подарок на день рождения понравится любому имениннику? Мне ужасно жарко, я вся потная и красная. В конце концов мы добираемся до небольшого дерева, в