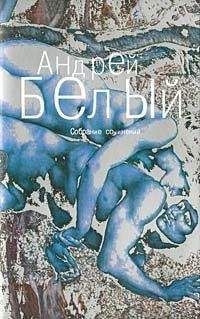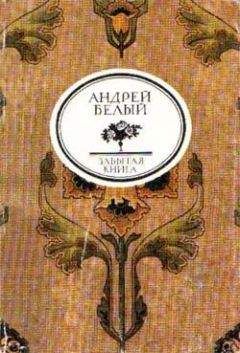Дарьяльский обертывается и кричит вслед:
— Как поживает бабушка! И ей, и ей поклонись от меня…
Только пыль вьется там по дороге, будто никакой Кати и не бывало. Пьяный от воздуха, Петр не понимает безобразия того, что только что произошло.
«Вот тоже и Катя», — думает он и быстро шагает к попу.
У попа сидит урядник, Иван Степанов, лавочник и уткинская барышня.
— Здрасте, отец Вук. ол: чай да рай! Но поп как-то сухо подает ему руку.
— Солнышко, блеск, трепет сердечный! Здрасте, Степанида Ермолаевна…
— Пфф, пфф, пфф, — воротит лицо уткинская девица, не без лукавства скашивая на него глаза.
Глядь, а лавочника перед ним нет как нет: глядь — лавочник в окне уже ковыляет, к лавке.
— Чего это он захромал на левую ногу? Ночное происшествие ему не приходит в голову.
Сухо урядник Петру протягивает два пальца: возобновляется прерванный разговор; на Петра, как нарочно, не обращают внимания; какое-то враждебное к нему обнаруживается чувство. Но Петр, как слепой: им, этим людям, дарит кроткое он благояволенье.
Говорят о Еропегине: «Кто мог ожидать — такой крупный туз и вдруг — паралич!»
— Со всяким бывает: и с бедняком, и с золотым мешком, — вставляет урядник.
— Бедная Фекла Матвеевна, — охает уткинская барышня.
— Чего там бедная? Радуется, поди: к кому, как не к ней, притекут миллионы!..
— Ты тут, хошь что, а перед смертью, болезнью да законом — тут тебе все одно: купец, дворянин, енарал, али химик…
— Жалко Еропегина… — поглядывает батя на окружающих с какой-то виноватой гримасой; а сам думает: «вот буду пить, так и меня так же вот хватит»…
— Ничего: хорошо, что хорошо кончается! — в восторге срывается с места Дарьяльский, но все точно конфузятся, тупятся, поворачивают спины.
— Ничего: надо только понять, что все ничего: вы посмотрите — блеск, паутина, солнце; на столе у вас, отец Вукол, золотистый медок; красные уже там, за окном осинки… Ха-ха: все благополучно — и уже себе прошел медовый Спас. К Третьему Спасу подкатывает — eгe!.. А вы про смерть; нет смерти — ха-ха! Какая там смерть?… — Все отворачиваются: в окошко бесшумно влетает муха с пакостным желтым пушком на спине и усаживается около кисейной кофточки уткинской барышни.
— Ах! — вскрикивает барышня: муха бесшумно мертвенный описывает круг и усаживается на прежнем месте.
— Странная муха!..
— Это — трупная…
— К епидемии…
— И мушка, и мушка тоже — хорошо! — продолжает Дарьяльский. — Ну чего вы: я спокоен; уже Третий подкатывает Спас, неужели же нам горевать: Бог даст, доживем до Усекновения Главы[86] — будет тогда лучезарный денечек… А вы — муха!
— А скажите, пожалуйста, господин Дарьяльский: правду говорят, что вы о младых богинях книжечку написали-с?
— Хи-хи-хи, — подфыркивает уткинская барышня и с чего-то тупит глаза.
— Вот то-то и оно, — подмигивает Дарьяльскому попик, — сами чуть ли не об «Откровении»[87] поговариваете, а под шумок книжицы с фиговым листиком выпускаете — пфа, пфа… Вот отец Бухарев[88] все читал-читал «Откровение»; под старость же лет взял, да и женился… Вы бы с «Откровением» не шутили…
— Ничего, — продолжает Дарьяльский, — все ничего: все можно: будем же радоваться; гитарой бы, батя, трыкнули, сладкой струной увеселились, до колеса в груди. Славьте Господа Бога, на гуслях и органах[89]…Матушка, принесите гитару, и воспляшем.
Тут произошло что-то невообразимое: уткин-ская барышня, фыркая, выбежала из комнаты, спотыкаясь о половик; лицо урядника стало свирепым и диким, губы же заплясали от смеха; а нелепая и красная в этот миг попадья, задыхаясь, накинулась на Дарьяльского, как свинуха, защищающая от волка свинят.
— Странные даже очень ваши слова: ни смыслу, ни складу в них нет никакого: что ж из того, что отец на гитаре меня просит играть? У других в глазах сучки подмечаете, а у самого-то — во какое в глазах бревнище: на всю округу видно; мы, слава Богу, не какие-нибудь такие: приллиантики не подтибриваем, на босоногих баб не выглядываем из кустов…
— Ах, матушка, я и не подумал: я ничего такого про отца Вукола дурного сказать не хотел.
— Пф-ффф-ффф! — пофыркивало из соседней комнаты, откуда высунулся теперь слюнявый попенок и таращил глаза.
— Кхо! — подавился с чего-то урядник, красный, как рак, и пуще засвирепел, сдерживая смех.
— Вас, — не унималась попадья, — я попрошу дома нашего не посещать…
«Они не видят, они не смыслят, слепые!» — так думает Петр, выходя из поповского палисадника; вслед ему из окна попадья бранные посылает слова:
— Может, ты и есть воришка тот самый, который… — не слышит: солнцу свои протягивает глаза: тянется, тянется ясная в луче паутинка; муха попалась — «жу-жуу!».
Вдали на холме, окруженный детишками, возвращается из лесу с кошелкой грибов Шмидт; Петр ему машет руками, но его тот не замечает, не хочет видеть.
«Что я им сделал? Все они дуются, не понимают, не видят, не хотят видеть!» — думает про избу столяра, где отныне на пяти квадратных саженях исполняется пришествие духа.
— Ой ли! — подразнивает его голос.
— Ой ли! — поддразнивает тот голос Петр.
— Здравствуйте, молодой человек! — будто ему в ответ раздается из-за спины.
Оборачивается: перед ним бритый барин, смеется; руки в перчатках; на одной руке плед; за его спиной — запад; на западе солнце.
— Гуляете: шепчетесь сами с собой!
— Нет, это я считаю по пальцам дни.
— А я вот уже дней не считаю: не считайте и вы.
— Хорошо, тепло — свет!
— Полноте, что за свет, где вы увидели свет? Вот итальянское небо светит и греет; но то на западе…
«Не видит света, — думает Петр, — а руки-то!» — Смотрит на руки, руки не светят: холодные руки, белые.
— Или мне все то привиделось, кажется? — неожиданно для себя говорит он вслух.
— Да, да, — шепчет ему Тодрабе-Граабен, барон, — вам привиделось: это все образы, образы.
Странная в словах властность; а барон ему продолжает шептать:
— Проснитесь, вернитесь обратно, — и показывает по направлению к Гуголеву.
— Куда? — в испуге вскидывается Петр.
— Как куда? На запад: там ведь запад. Вы — человек запада; ну, чего это пялите на себя рубашку? Вернитесь обратно…
Мгновение: жизнь проносится перед ним, и — Катя: восторга как не бывало. Бог мой, что он сделал: молодую ее раздавил он жизнь; Катя зовет его — слушайте: где-то воркует беленький голубок: где-то стрельнула по воздуху ласточка; «ививи» — раздается ее жалобный крик. Там, там, из-за чащи зеленой — времени беспеременный шум: то потоки ветра, его порывы на деревах; и от того шум от дерев беспеременный. На лугу Павла Павловича распластана тень; кончик гуголевского шпица блеснул из-за чащи: там, там ждет Петра старый дом: туда бы, на запад.
* * *
— Отыди от меня, Сатана: я иду на восток.
А в поповском домике непрекращаемая идет болтовня, шепотня.
— Нде, странные в округе происходят дела: тот порешился, этот сбежал к сицилистам, а того забодал бешеный бык… впрочем, того не того, — бубе козыри, — сдает карты урядник.
Но попик не отвечает: накуксился в уголку, кулачки подпер под подбородок и задумался тихо: «уж моя-то, видно, судьба, что в пьянстве всякий меня уличает, что тут скажешь?» Куксится попик: кулачками себе протирает глаза.
— В окрестности тут недавно бегал волчонок; кто-то ему и заглянул в буркулы: кроткие волчонка буркулы, равно человеческие глаза; а по-моему, то вовсе не волк; у мужика же опустилась дубина; волчонок убежал под кусты, да оттуда глазами — ну, поблескивать!..
И опять не ответил попик; пуще скорчился попик: закорчился; две слезинки скатились по его глазам: «Что за жизнь — жизнь волчья: от всякого-то зависишь, и все-то, видишь ли, умнее тебя!» — красно-золотой волос било его красно-золотое солнце и пушился поповский волос.
— Надысь видели, как вдали проезжал отряд казаков; все с винтовками и в мохнатых папахах, проехали на восток; народ же стоял и толковал: всюду, значит, бунты; а бунты те всем-то пона-доели… Ваша, барышня, карташо — бита?
— Ндес!
Набил трубочку попик; вот уж скоро и служба; отпотеешь, а там — что? Рябиновки бы!..
— Баба одна по грибы ходила; слышит, в чаще мужик разорался — басище: жутко ей стало; спряталась она за кусты, — глядь, а по тропочке женщина зашагала, юбку подобрала — сапожищи; и ну ревет себе, ревмя ревет: «Христос воскресе из мертвых». Кто же, как не оборотень?…
— Оборотень и есть! — усмехается на слова попадьихи урядник. — Знаю я оборотня: эт о Ми-хайло стражник…
— Ах ты, Господи! — вздыхает она. — Где же видно, чтобы мужик в бабу обертывался?