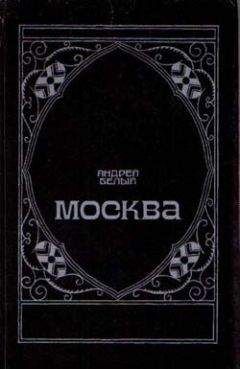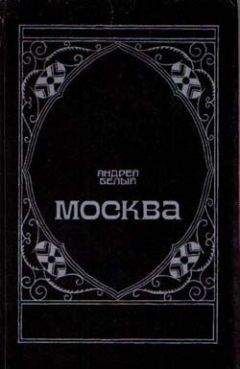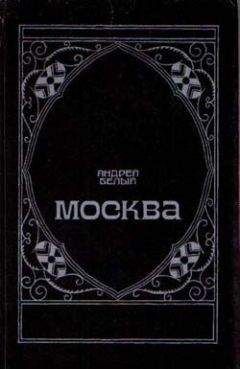— Бы!
Гипербола, символ!
* * *
Профессор Коробкин не верил, что может гипербола ассимптотою стать; он не выразил страха за судьбы висящего там над рекою «бабца» (между нами сказать, — он «бабца» не любил); даже он не спросил:
— Анна Павловна, — как вы?
— Ну, что?
В этом случае выказал недопустимую вовсе рассеянность: черствость; он был добряшом; но на всякую сентиментальность — пофыркивал; он не любил прославленья покойников, — всяких гипербол, ну там, украшающих их; он живых — поминал; а покойников — нет, как начнут перед ним:
— Ах, какой был покойник.
Он — в фырк:
— Был — пропойцей, в корне взять!
И умолкали, потупившись.
* * *
Там и в сем случае: сел на карачки пред кочкой и зонтиком кочку разрыл: стала кочка — живой; муравьями покрылась она.
Вертопрашило.
— Папочка, — где вы?
Вскочил он с надвёртом на Наденькин голос.
— Пора!
Нос же — взаигры:
— Это девчурка моя?
— Чай простыл. Приближалась: такой акварелькой.
Простился с Никитой Васильевичем; мохнорылым лицом в Анну Павловну ткнулся:
— Да-с, — Анна Павловна, — там как-нибудь уже!
— Ну, — посмотрел на часы, — я пошел.
Весь задетился: Наде.
Бежал с ней в полях, разволнованный ходами мыслей, которые он излагал Задопятову; сам для себя говорил: Задопятов, пространства, глухая стена, — все равно:
— Да, сидишь ты, обложенный ватой, — в коробке: работаешь.
Наденька слушала, глазки сощуря.
— А, — на-те. Присел он:
— Оглоблею… Руки развел:
— …долбануло меня.
Глазки — малые, карие — в муху уставились.
— С этой поры… К мухе — носом:
— …и шумы в ушах.
— Бедный папочка!
— Ти-ти-ти-ти, — подкарабкался к мухе. И — цап.
Он восьмерку мгновенную вычертил носом.
— И всякие дряни.
Изгорбышем сделался перед дрожавшими пальцами, рвавшими голову пойманной мухе; под мышкою — зонт; котелок — на затылке.
— Самбур, говоря рационально, — рванул котелок; из подмышки свой выхватил зонт.
Припустился бежать.
За ним — Надя; в глазах у нее отражались испуги за папочку:
— Вы — заработались.
— Да-с: долбануло. Мотнулся.
— И — случай с бабцом, как оглобля… И Митенька. Руки и ноги развел; зонт — под мышку!
— Подумали — в вате; а вату и вынули.
— Бедненький, милый!
— Коробки шатают!
— Какие коробки?
— Шатаешься, точно кубарик.
Рукой изотчаялся и окровавленным глазом застарчил он:
— Бьет тебя жизнь! Обласкала корявого папочку.
— Полноте!
Хмарило: жар — размарной; солнце — с подтуском; дымчато-голубоватые просизи — взвесились; в воздух.
— Все — сломано: соединение двух — проводов электрических, искра; и — взрыв, в корне взять: контакт сил первозданных и творческой мысли.
— Да-с, — да-с!
— Аппараты сознанья ломаются.
Бросил он взгляд на себя:
— Да и — мой! На нее:
— Да и — твой.
И — пошел; раскачавшейся левой рукой строил ей частоколы из мнений; собака, навстречу бежавшая, — в сторону.
— Вы, — осторожнее.
— Ась?
— Да — собака: кусается, может быть.
Бегал в окрестности черноволосый, сбесившийся пес. Спотыкнулся о кочку:
— Какие же мы, говоря рационально, — жрецы?
И свистун, полевой куличок, подавал тихий голос откуда-то издали.
— Мы — не жрецы, коль от первого, в корне взять, встречного наша зависит судьба… Коли он, говоря рационально, просунулся бакой похабной к тебе с предложением гнусных услуг…
Горизонты стояли изруганы громом.
Под черепной коробкой сознанье распалось: мирами: да, — что-то творилось с ним, потому что он вдруг повернулся; и — тыкнулся носом за спину себе: показалось, — к нему приближается кто-то, как третьего дня: как… всегда.
— Чушь.
Но — третьего дня волочился за ним по дороге, с полей, к гуще сада, сиеною тихою — «кто-то»; и все оказалось собакой; ее едва выгнали.
Он привыкал к появленьям «кого-то», который… держался… вдали: привыкал за жилетик хвататься, в который зашил он открытие; стало казаться: стояние «кого-то» — закон его жизни; «закон» начинался с удара оглоблей; но он — продолжался: ужаснейшим шумом в ушах; и — мерцаньем под веками, сопровождавшим сомненья в вопросе о смысле науки; сомнений подобных еще он не знал; как театр посетил, взяв билет на «Конька-Горбунка», уж профессором (приват-доцентом в театр не ходил), так вопрос роковой для него (есть ли смысл в математике) встал в конце жизни, когда математика — вся — заострилася в нем, потому что в Москве, в Петербурге, в Стокгольме, в Токио и в Праге считали: что скажет Коробкин — закон.
Он, закон полагая, законом поставил себя; вне закона.
И, выйдя из сферы законов в законе открытий законов («таких или эдаких», — явно законных в приеме, приемов же — сто миллионов: «таких или эдаких»), — выйдя из сферы законов за фикцию форм, — испугался открытия: ясность закона есть случай, ничтожнейший, — в общей системе неясностей; так и «Коробкин» лишь часть сферы «каппы»; планеточка «каппы», разорванной протуберанцами: всякая форма сгорает в бесформенном.
В «каппе» сгорает «Коробкин»!
Ивана Иваныча, брошенного всею массою мысли, протекшей расплавами в «каппу» — звезду, охватило обстояние гипотетической жизни под формою «призрака», — проступью контура: в дальнем тумане; а вечером — в окнах; к окну подойдешь — никого.
— Не пойти ли к врачу?
— Дело ясное.
С этой поры, перепрятав листочки с открытием, их он зашил на себе.
* * *
Палисадничек дачи.
Здесь встав, приподнятием стекол очковых уставился: в гипотетический, в гиперболический космос.
— Вы что это, папочка? Руку погладила.
— Так себе.
Тотчас прибавил, — неискренним голосом:
— Гм…
— Что?
— Друг мой…
— А?
— Не видишь ли?
— Ну?
— Там — мужчина…
— Где?
— Там…
— Это ж — пень.
А глыбливая синяя туча, взметнув верхостаи под небо, бежала сама под собой завитком белым, быстрым и нервным; под нею же, — почвы свинцовая сушь с забелевшей дорогой; сбоку — пенек серо-бледный:
— Не пень, потому что…
Вдруг — вспых: взрез высокой, извилистой молньи; вдох листьев; и после уже — гром глухой.
— Как, не пень?
— Да не пень, потому что.
Пень — двинулся: гиперболический мир приближался.
Урод шел на них. Надя вскрикнула:
— Видела.
Видела это лицо — в лопухах: там оно дрезготало невнятицу о шелкопрядах и «яшках»; но там оно было без тела; теперь это тело приблизилось диким горбом, переторчем в том месте, где зад: вместо зада — Гауризанкары; а тело сломалось углом: грудь к ногам; а живот провисал; ноги — дугами; уши же — врозь: хрящеватые, нетопыриные; вся голова — треугольник — глядела профессору в низ живота; означаяся всосами щек под желтевшими скулами; узкий шпинечек бородки, казалось, цеплялся за травы.
А с пояса вместо часов на тесемочке лязгали ножницы.
Он — подошел: снял картуз (верх лба — белый; под ним загорелый); и стал дроботать, как лучина под щиплющим ножиком:
— Вы, я позволю заметить, — Коробкиным будете?
И подскочила под небо ужасная задница: оцепеневший профессор молчал; вспых: и — взрезы высокой, извилистой молнии.
— Я-с!
И — молчанье; вздох листьев.
— А я… Гром глухой.
— Ну-с?
— Портной, — Вишняков.
Покосился он щуплым лицом; и рот, собранный малым колечком, до уха разъехался — вбок; и профессор подумал:
— Какой криворотый!
Стоял независимо: руки в карманы:
— До вас — дело есть.
Глаз добрейше скосился на Надю:
— А мы — отойдем: неудобно при барышне. Вздернув с достоинством нос, отошел; а за ним — подпрыг зада; вполне был уверен: профессор — последует.
Он — и последовал.
Стали при кустиках: у Вишнякова, как мышечка, выюркнул носик:
— Так что…
Он достал табаковку свою:
— Кавалькаса не знаете?
И табаковкой профессору — под нос:
— Чихнемте?
— Не нюхаю.
— Это — неважно.
— Но что вам угодно?
Уродец приятно глазами вглубился в глаза:
— Я, как вы замечаете, верно, с горбом: занимаюсь спасением жизни своей.
— Так-с… И — что ж?
— Да и всякой. Профессор подумал:
— Визгун добродушный, — но что ему нужно?
Визгун же, поставивший палец, рукой из жилета достал письмецо; и разделывал в воздухе чтеческим голосом:
— Тут вот — письмо.
— Дело ясное.
— Предназначается…