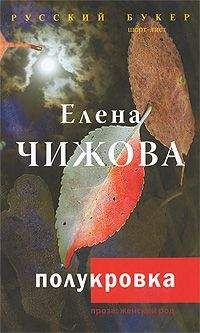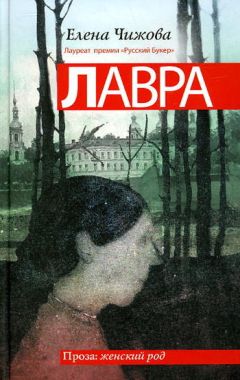"Нет, - я перебила решительно, - теперь, когда прошло время, я знаю другое. Может быть, вы и правы, называя смерть жизнью, потому что так - для вас. Для меня - по-другому. Люди не ворЛны - в одно перо не уродятся. Здесь, пока живу, полнота - многослойна. Нет теплоты без холода, сладости без горечи. Я это знаю потому, что слышу другие слова". Снова, как будто понимая, отец Глеб усмехнулся. В его усмешке просияла Митина ненависть - родовой признак поколения. "Это - бесовщина", - он дернул шеей, словно принял решение. Не отрывая глаз, я протянула руку и взялась за ломти.
Всеми пальцами, держа руки над тарелкой, я рвала хлеб в мелкие клочья и, дорвав, полила водкой, стоявшей в стакане. Отвратительный запах водочного крошева ударил в нос, и, обернувшись к стойке, за которой стоял официант, носивший травленую кожу, я спросила ложку. Официант приблизился и протянул. Примерившись, я черпнула поглубже и, не дыша, пихнула в рот полную. Обжигающая похлебка опалила внутренности и потекла мелкой, тлеющей дурнотой. Ложку за ложкой, почти не давясь, я носила в рот и, не дыша, загоняла в желудок, как загоняют свиней - в клеть. Проглотив последнюю, я оттолкнула. Наблюдавший из-за стойки присвистнул коротко.
"Вот и хорошо, теперь вы будете, - перемогая отвращение, я облизывала ложку, - всегда... когда потреблять... будете помнить... нас, - отложив ее, я махнула свободной рукой за Неву. Вспухший язык лез в горло. - ...Потому что нельзя - когда не помнишь, когда нет памяти, ни служить, ничего, заново не начинают, нельзя как ни в чем не бывало, потому что, - смеясь, я грозила неверным пальцем, - грехи не пускают... Как это там, не мир, не мир - но меч..." Пьяный локоть соскользнул со стола и впился в ногу. "Ох, дает, девка, веселая, твою мать! - официант пристукнул о стойку пустым стаканом, как каблучком. - Не каждый мужик... чтобы водку с хлебом! Ей-богу, в первый раз!" - он качал головой восхищенно. "Пошли отсюда, скорее", - отец Глеб тянул из-за стола. Я держалась за край, боясь отцепиться. "Не бывает - вы-бо-роч-но, одна теплота... вы... а все другие... черт бы вас..." - я бормотала несвязное, пока он тянул меня к выходу.
Холодный речной ветер ударил в губы. Глубоко вдыхая, я держалась за поручень. Сознание возвращалось. Сквозь муть, ходившую в теле, я стыдилась пьяной выходки. "Ладно, - я заговорила примирительно, - ладно, квиты, думайте как хотите, может, я и вправду..." - "Ты понимаешь, что ты сейчас наделала?" он говорил нежно, словно утешая. Волны, подбивавшие пирс, росли за его спиной, как крылья. Деревянный настил качался неостановимо. С трудом я удерживала равновесие. Слегка растопырив руки, отец Глеб стоял на краю и глядел сияющими глазами, как будто за моей спиной, невидная в речном тумане, дрожала восторженной рябью неоглядная толпа. Спиной к толпе, я стояла, брошенная на суд и милость его лучезарных, инквизиторских глаз. "Ты - ведьма, - он говорил с пьяным наслаждением, - то, что ты сделала, - отказалась от нашего причастия, потому что такие, как ты, причащаются по-другому: наоборот, это - ваша черная месса". "Вы сумасшедший?" - выпустив поручень, я отступала медленными шагами.
"Толкнет, сбросит, не найдут, - короткие мысли, одна страшнее другой, бились и исчезали, падали на дно, - сумасшедшим - потакать, во всем соглашаться, вот оно зачем - на вокзал".
"Черная месса, что значит черная месса, я не понимаю", - оттягивая время, я бормотала, не подымая глаз. Дрожащими, сведенными пальцами, вытянув вперед руки, он крошил и крошил невидимый черный хлеб: "Вот так, вот так, не вино водка, не вынутые частицы - хлебные, вырванные куски..."
"Если сейчас он сделает шаг, только шаг, ко мне - я смогу", - примериваясь и содрогаясь от ужаса, я думала о том, как столкну его с пирса - вниз. Он говорил и торопился, задыхаясь: "То, о чем ты говоришь, - гордыня. Каждый из нас отвечает за себя, только за себя, никто не имеет права - чужую ношу. Бог знает сам, что и на кого возложить", - сиповатым голосом, звучавшим как надтреснутая тарелка, он бормотал, не останавливаясь. Едва прислушиваясь к словам, я следила холодным, внимательным, трезвым глазом: только шаг. "Ты, ты должна думать о муже, жена, все остальное - грех, - переложив дыхание, как штурвал, он мотнул головой за реку, где, невидный за ночным туманом, лежал вывернутый к небу кирпичный крест. - Иначе кончится плохо, так плохо, как даже ты не можешь себе представить, но потом, когда оно кончится, не смей говорить, что я - я не предупреждал тебя, - глаза сияли вдаль, поверх, туда, где в темноте и тумане мелкой речной рябью дрожала покорная толпа. - Представь, ты видишь двоих: мертвых, их обоих, - я-то вижу - ты бросаешься к мужу, потому что Бог един, и Он соединяет, соединяет на смерть! - Рукой в небо, сияя глазами, как звездами, он говорил о царстве смерти и смирения, в котором есть Бог и мы, и нет других. - Перед лицом смерти нет другого выхода, ты должна, добровольно, потому что, если не покоришься, Бог терпелив, но терпение Его на исходе!" Вера, бившаяся в надтреснутом голосе, терзала меня. Явственно и вдохновенно, словно время сделало гигантский шаг, он прозревал меня стоявшей над двумя гробами и, вглядываясь неотрывно, пронзал мое сердце. Медленный ужас подымался из глубины желудка. Он имел вкус спирта, как будто я сама, мое несмиренное тело исходило перебродившим соком - пропитывать чужие официантские куски. Запоздало, так, будто ничего нельзя поправить, я думала о ловушке, в которую загнала себя: ради истовой веры, во славу последнего, смертного доказательства, которое одно должно расставить по местам, он пойдет на все, перешагнет беспощадно. На пустом пирсе, удерживая тяжелую голову, я отступила на последний шаг. "Скажите, а вам никогда не приходило в голову - все рассказать ему?" Я назвала мужа по имени, и отец Глеб понял.
"Нет, - отец Глеб отвечал твердо и тихо. - На это я не имею права. Ни ему - о тебе, ни тебе - о нем". Пропуская последнее, я спросила: "А если дадут?" ужас заливал рваные клочья страха. "Как - дадут?" - вопросом на вопрос он отвечал беззвучно, забывая о толпе. Сейчас, покинутый всеми, он выглядел растерянным и беззащитным. "Зачем спрашивать, вы же понимаете - кто. Вас же учили, в университете, про камеры. Или вы хотите сказать, что из священников никто и никогда?" Отец Глеб молчал, не опровергая. Быстрая мысль, как пред глазами владыки Никодима, взвилась и упала - камнем: вот удобный случай, единственный, здесь - и никого... Если сделать сейчас - не расскажет: никому и никогда. Он замер, словно расслышал. В его глазах поднимался понятливый страх, как будто не я - другая, о которой было рассказано, заступила ему дорогу поперек. Не им преданная женщина оживала в нашей общей памяти, поднималась, как росток, сама собой. Быстрым взглядом, похожим на ангельский, он обвел реку, взывая к красному кирпичному кресту. "Мне б с тобой - не беседу, мне б тебя - на рога", - издалека, с ужасом, бьющимся в крови, вступали слова Митиной правды. Мы стояли по обе стороны, и между нами, невидная и неслышная, разверзалась пропасть. Я шагнула назад, цепенея. Настоящая, воскресающая из мертвых ненависть заводила мои руки. Потоки отворенной крови, по которой передается, хлынули с шумом. Сквозь шум я слышала стон донных баржевых шлюзов и полное водою сердце, стукнувшее последним ударом. Лицом к лицу я смотрела, не отпуская, и под моим взглядом отец Глеб вздрогнул и скосил глаза. Коротко и быстро, вслед за ними, я повернула голову. Бледное лицо официанта маячило в пустом незатопленном окне. Травленой рукой он держался за поперечину и смотрел холодно и внимательно - издалека. Отступив, я бросила руки, содрогаясь от несодеянного. "Господи, господи, что ты? Что ты?.." Глаза, сиявшие толпе, оплывали свечами. Отец Глеб сделал шаг и обхватил меня: "Не надо, не надо, ты не должна, разве можно, этакое - на себя... руки... Отчаяние - смертный грех, непоправимый..." Не отпуская, словно я и вправду уходила вниз, под невскую воду, он бормотал и держал изо всех сил, не помня себя. Из-под рук, вывернувшись, я повернула голову. Помрачение отходило. Официант глядел с усмешкой, понимая. Пальцы, подававшие куски, выпустили поперечину и коснулись нижней губы. Окончательно высвободившись, я пошла вперед - к спуску. Тихие шаги ложились на доски, вслед, за моей спиной. Дойдя до твердой земли, я обернулась: "Вы неправильно поняли, это не отчаяние. Не себя. Сейчас я чуть не убила вас", - я сказала тихо и твердо. Отец Глеб усмехнулся: "Значит заслужил, на все Его воля". Усмешка сходила с губ. Он смотрел на меня с нежностью, никак не вязавшейся с болью моего нераскаянного греха.
Вечером, занимаясь обыденными делами, я глядела на свои руки. Пальцы, перебиравшие посуду, не отпускало напряжение. Напряженные, они казались короче и толще, словно тело, решившееся на страшное, перерождалось само собой, принимаясь с рук. Стукнув об стол дрогнувшим фарфоровым краем, я отставила чашку. Чужие кисти торчали из запястий, как из рукавов. Словно бы c холода, я тянула домашнюю кофту, норовя скрыть. Вложив один в другой, как Иосиф - в муфту, я села на диван. Теперь, когда руки скрылись, я могла думать, не отвлекаясь. Странная мысль беспокоила меня, кружила неостановимо. Я видела свое, другое, изуродованное тело: кривые толстые ноги, красную истертую кожу на локтях, чужую бычью шею, сбившуюся складками. Ясно, как будто гляделась в зеркало, я видела себя уродом, собравшим в себе нераскаянное. "Им-то хорошо!" - я думала, как о врагах. Как с гуся вода. Выслушивают, пропускают через себя. Те, кто стоит к ним в очередь, говорят и говорят беспрестанно, из года в год, из века в век - не опасаясь, без оглядки. Снова и снова, всякий раз начиная заново, они подымают и опускают епитрахиль над новой - покаянной - головой. Любой, даже самый разбойный грех отпускается под их руками, уходит в небо, поднимается как облако - под лучи. "Много разбойники про-о-лили крови честных россиян..." Низкий красивый голос, выпевавший песню разбойника, становился монашеским. Усмехнувшись, я подумала: "Тоже выход". Стоит положиться на их благодать, и кровь, отворявшая шлюзы, хлынет обратным потоком: назад, в самые отворенные жилы. Она хлынет, и тогда можно начинать заново, по-монашески, как ни в чем не бывало. Разбойная жизнь, спетая прекрасным голосом, обернется святостью и теплотой. Не помня убитых, она прорастет песней убийцы, чужим, превосходным голосом - для удовольствия. "Нет, - я сказала себе, - нет, так не должнЛ, здесь нет удовольствия, их голос - скверный".