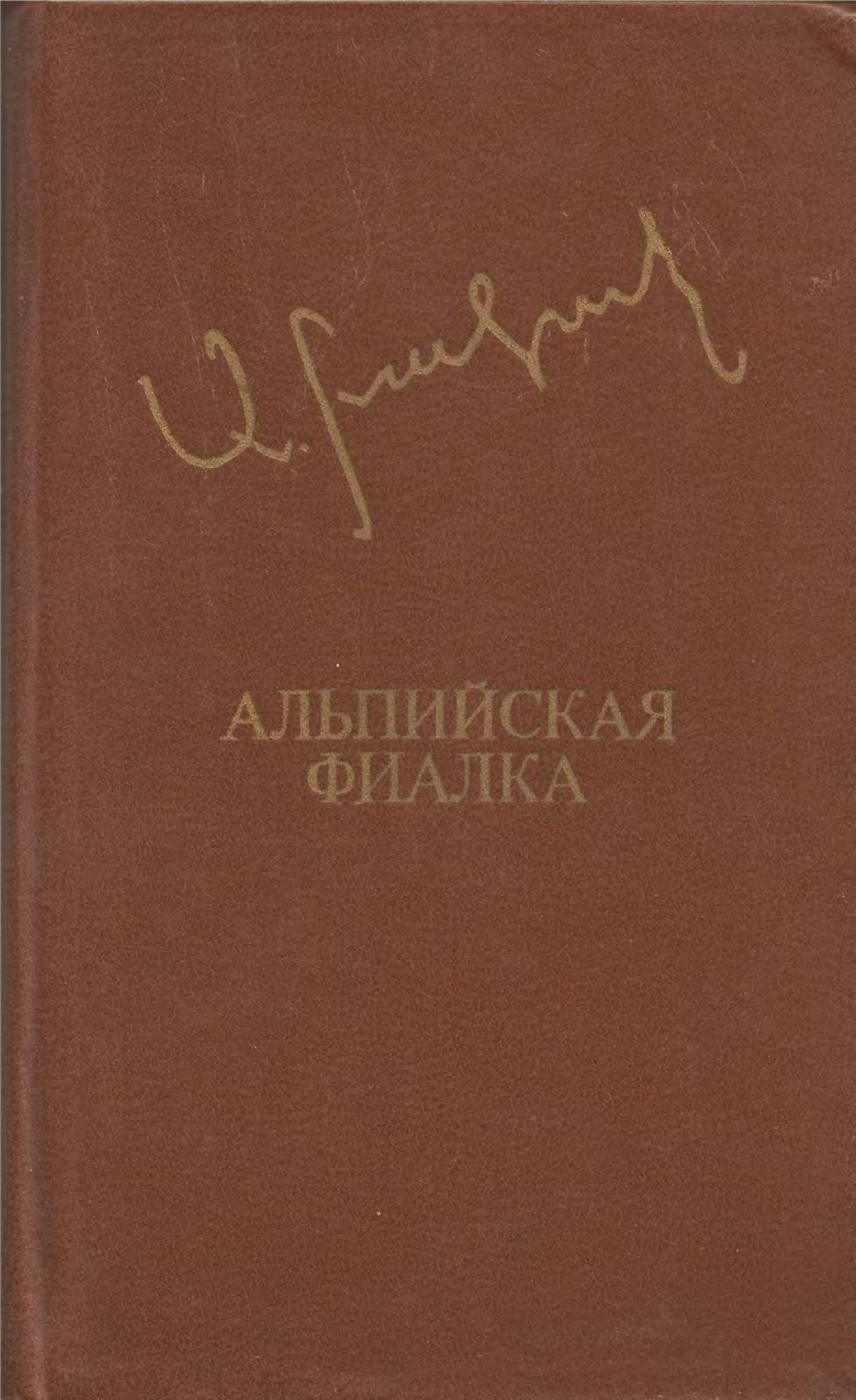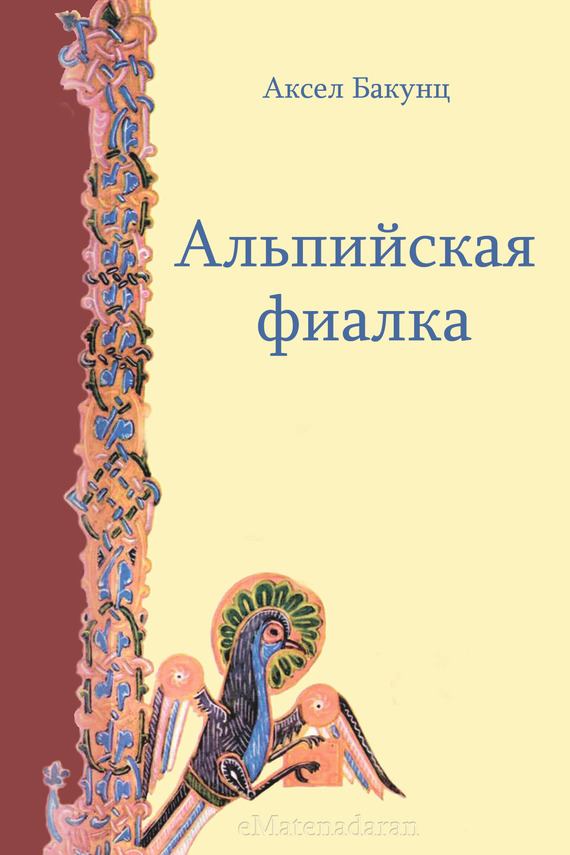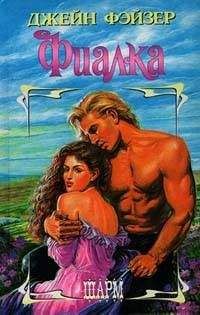посылал в тот дом, где плакал посиневший от голода ребенок, походивший на мешок с костями.
В ту трудную зиму Ата-апер, то и дело проваливаясь в снегу, поднимался к старой церкви, в нищий квартал, известный под названием Мохратах. Он успокаивал крестьян, подбадривал:
— Вот и Мехракерц потемнел. Намедни в Верхнем квартале говорили, что в Ехцакаре уже нет снега. Поднатужьтесь еще чуток, родимые, самая малость осталась.
Ежели в Ехцакаре нет снега, выходит, не сегодня-завтра откроются поля Миджнара, у ручья Езнараца вырастет мята, и какая мята… Совсем немного осталось, умереть мне за вас. Ребятишек как-нибудь прокормите, а сами потуже затяните ремни… У вас ведь желудки луженые, все переварите. Только за детишками присмотрите. Того и гляди, откроются дороги, погоним ослов в Баркушат, там у Ата-апера знакомые среди тюрков есть, каждый из них — хан, султан. Риса у них припасено — на сто верблюжьих вьюков…
Слушали его матери, слушали и согнувшиеся под непосильным бременем отцы, и хоть жизнь была тяжкой, но Ата-апер как-никак был надеждой, или, как они говорили, «слова его будто пшеница, словно хлеб пшеничный».
3
В начале марта выдались солнечные дни. В ущельях Арегуни растаял снег, обнажился ручеек Езнараца, появились первые кусты темно-зеленой мяты.
Именно в эти дни один за другим скончались пятеро детей, двое из них из одного дома. Этот день был самым тяжким днем для села. Случалось, что молния ударяла в отару овец и погибало больше половины отары, случалось, что в погожий день обрушивался ливень, смывал созревшие хлеба, топил и жнецов, бывало, что мор косил скот и, как редкие колосья после жатвы, во всей деревне оставались три тощие телки, но чтобы от голода померли дети — это было худшей из бед.
Все село собралось во дворе несчастного дома.
Когда из дома вынесли два открытых гроба — мартовское солнце озарило лица детей и засветились золотом их восковые веки. В доме поднялся крик, вопли. Несчастная мать стояла с протянутыми руками на пороге. «Куда вы уносите моих деток, куда уносите?..» — кричала она, воздев руки к солнцу, будто умоляла солнце вернуть жизнь ее застывшим малюткам.
По обычаям этого горного края покойного сопровождали лишь мужчины. Женщины оставались дома, чтобы оплакать новых и старых покойников, почивших вечным сном бог весть когда. А похоронная процессия медленно поднималась к скалам, к древнему сельскому кладбищу.
Сердце Ата-апера переполнилось болью. Он был из тех, кто не раз смотрел в лицо смерти, вступал в единоборство с волком, проходил темной ночью по дремучим лесам, ночевал в ущельях, видел изрубленные трупы, — и не вздыхал, не плакал. Но плач ребенка мог взволновать его до глубины души.
Ата-апер был плоть от плоти этого сурового горного края, и когда процессия вышла из села, душа его надломилась, и он стал причитать. Слыхали ли вы плач горцев? Не те причитания женщин, которые выстраиваются под стеной или вокруг могилы… Они начинают тоненьким голоском и поют, надрывая сердце, распаляя горе, и ни конца этой песне-плачу, ни очищения страданием. Так скорбят женщины-горянки; когда слушаешь их, кажется, что ты заблудился в бездонном ущелье и, куда ни повернешь, всюду громоздятся скалы и нет спасения. Но не так скорбят горцы и не так оплакивал детишек Ата-апер. Он начал низким спокойным голосом, будто первая волна бури, что проносится над полями и лесами, когда покачиваются под ветром травы и перепелка еще не знает, что на ее птенцов посыплется черный град. Ата-апер начал глубоким голосом, как начинают петь оровел — песню пахаря, затем голос его окреп, взвился, закружил по извилистым тропам, и чем выше он поднимался, тем мощнее становился, и оглушительно загремел, как гром на почерневшем небе, и эхо его докатилось до Мехракерца, до самых камней Зингила, и семикратно звенел Пхндзакар [49].
То был не плач, а ужасающий протест голубому небу, которому вторила пробуждающаяся природа, игорный орел, встревоженный звуком его голоса, вылетел из гнезда. Он уносил на своих крыльях протест человека против смерти.
С кладбища Ата-апер направился к ущелью Хурупа, где под солнцем на суглинках уже таял снег. В ущелье ни души. Было тепло. Ата-апер шел то по снегу, то по тропинке, которая уже кое-где обнажилась из-под снега, потом присел на камень.
Пестрые птицы, перелетая с камня на камень, ловили мошек. Ворона клевала на снегу замерзшую, сухую грушу. Алели прошлогодние ягоды шиповника, а листья ежевики словно только что зазеленели.
— Слава тебе, всевышний, что все так умно задумал, даже про мошек не забыл…
С кем беседовал Ата-апер, с богом ли или с духом этих ущелий, что обитал в дупле старой шелковицы, и был таким же седобородым старцем, как Ата-апер, в лаптях и архалуке и даже носил в кармане архалука медный коробок с нюхательным табаком? С кем беседовал Ата-апер — он и сам не ведал, но разговаривал, потому что нельзя молчать, когда в начале весны пригревает солнце в мирном ущелье Хурупа, журчит вода, невозможно молча внимать тем таинственным голосам, что звучат в пещерах, видеть ущелье, погруженное в глубокое молчание. — Раздавал смерть? Дал бы хоть жаждущему. Вон старуха Гичунц два года просит, умоляет, чтоб бог прибрал ее… Ослеп ты, что ли? И как твоя рука поднялась на невинных малюток? Спереди меч, сзади — голод, хватаешься за веревку, а она, глянь, змеей оборачивается. Ну, скажи, куда народу-то деваться? Сверху с гор поливают нас огнем, снизу — печемся, как в огне. Ну ответь же, ответь…
Весело чирикала птица, поводя хвостиком. С дерева слетела ворона, набросилась на другую, отняла у нее добычу. Затем обе они полетели в глубь леса. Тихо, только слышались таинственные звуки, доносившиеся из ущелья Хурупа.
Ата-апер стал подниматься по склону ущелья. На южных склонах снега уже не было. Виднелись поля озимого ячменя, такие крошечные, что тень шелковицы прикрывало поле.
Ата-апер остановился у края поля.
— И когда ты поспеешь? Ведь из одного только дома два гроба вынесли…
Он вышел к вершине холма. Наверху все еще лежал густой слой снега. Он оглянулся да так и застыл на месте. Казалось, раскрывшуюся перед взором картину старик видел впервые. В долине раскинулся город. Сверкали в лучах закатного солнца железные кровли домов, и этот блеск, казалось, расширял границы города. В этой сверкающей долине, как копна желтой пшеницы, горел золоченый купол церкви. И ничего нельзя было различить и уловить в глухом шуме, уносившемся вместе с сиянием в далекие дали. Нельзя было определить, что это, людской шум, звон