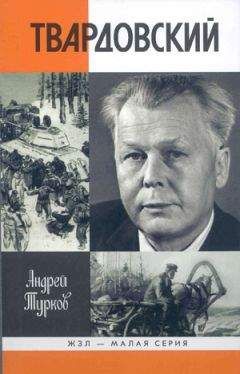Впрочем, не будем оберегать Александра Ефимовича от стрел критики. Разумеется, он не стал бы доносить на своих младших отчасти приятелей — баловней-поэтов, — но и удерживать себя и своих действительных друзей (особенно друзей просвещения) от того, чтобы посмеяться над ними, — было не в его правилах.
Еще в 820-м году он уже кое-что помещал в "Благонамеренном" на тот счет, что ныне есть такие сочинители, которые кроме самих себя лучше никого не видят и друг друга в таланты жалуют, бессмертие дают.
Потом, весной 821-го года, выбрав в посредники Измайлова, на Дельвига и Боратынского решил напасть их бывший приятель — Крылов (не Иван Андреевич, разумеется, а младой его однофамилец — Александр). В марте 820-го года Крылов весьма поддерживал Кюхельбекера и сильно негодовал на Каразина ("Пусть зависти змия шипит у ног Певца — Он звуком струн шипенье заглушает!"). Полтора года назад, перед отбытием в Финляндию, и Боратынский посвятил ему одно откровенное послание. Не знаем, правда, явилось ли оно отголоском действительных общих застолий или было только отзвуком чисто поэтического ревнования покойному Державину, любившему некогда размышлять о скоротечности всего вообще: Летящий миг лови украдкой, — Игея, Вакх еще с тобой! Еще полна, друг милый мой, Пред нами чаша жизни сладкой; Но смерть, быть может, сей же час Ее с насмешкой опрокинет, — И мигом в сердце кровь остынет, И дом подземный скроет нас!
Было время — и Дельвиг писал Крылову о чаше жизни и о чаше круговой…
А в мае 821-го года, пока Боратынский пировал с Дельвигом новое возвращение из Финляндии, Крылов принес Александру Ефимовичу для "Благонамеренного" четырехстопное отречение от былых знакомцев, прочитанное тотчас (а именно: 26 мая) в Михайловском обществе, в тот же день внесенное в домашний альбом Александра Ефимовича и полетевшее истинным картелем к прежним друзьям. Я никогда не буду с ними Среди мечтательных пиров Стучать бокалами пустыми! Но что ж!.. к чему напрасный вздох? Уже Парнаса грозный бог, Исполненный негодованья На дерзостных жрецов своих, Сказал: "Да будут их посланья Так сухи, как бокалы их!" И страшный приговор свершился! Не внемлют музы их мольбам; Пред ними с шумом затворился Бессмертия высокий храм! Пускай трудятся: их творенья Читателей обнимут сном, И поглотит река забвенья Венец, обрызганный вином!
Причины крыловского гнева нам не ведомы.
Когда Дельвиг ознакомился с содержанием этого картеля, он, видимо, должен был молвить: "Забавно"! — и посмотреть вопросительно поверх очков на своего друга. Дельвиг плохо умел отвечать на грубости: язвительность между ними была привилегией Боратынского.
Недаром он, едва начав сочинять стихи, сразу испробовал остроту своего языка на невинном в ту пору перед ним Шаликове. Тут же был случай иного свойства — тем более вызов был принят. Кто жаждет славы, милый мой! Тот не всегда себя прославит; Терзает Комик нас порой, Порою Трагик нас забавит. Путей к Парнасу много есть: Зевоту можно произвесть Равно и Притчею и Одой И ввек того не приобресть, Что не даровано природой. Неисповедим Фебов суд. К чертогу Муз, к чертогу славы Одних ведет упорный труд, Других ведут одни забавы! Равны все Музы красотой, Несходство их в одной одежде. Старайся нравиться любой, Но помолися Фебу прежде.
Сей миролюбивый ответ они отдали в "Русский инвалид". Крылов не отвечал публично, то ли получив полное удовлетворение, то ли быв занят чем-то более достойным.
* * *
Прошел год.
Догорала страсть Боратынского к С.Д.П.; начались ее свидания с Панаевым в Летнем Саду; Дельвиг все более доверялся своим чувствам к ней; Воейков затеял собственный журнал, пока в виде приложений к газете "Русский инвалид" — "Новости литературы", — куда заманивал всех лучших сочинителей (благо все они были в большей или меньшей степени влюблены в его жену); Батюшков со всей очевидностью сошел с ума (но еще теплилась надежда на выздоровление); между Петербургом и Москвой начались регулярные рейсы дилижансов; отдельным указом запретили всяческие тайные общества; в типографии Греча печаталось полным ходом, вдогонку "Шильонскому узнику" Жуковского, — новое, романтическое сочинение Пушкина: "Кавказский пленник"; в Петербург приехала спасать брата Софи Боратынская; возвращались гвардейские полки; князь Шаховской поставил на театре очередное создание своего быстротворящего разума — "Новости на Парнасе, или Торжество Муз"… Последнее событие имеет точную дату — 10 июля 822-го года — и одно, ныне неопределимое с точностью во времени стихотворное следствие в 11-ти куплетах, — какое, сейчас скажем.
* * *
Подлепарнасские страсти потому и подлепарнасские, что питаемы не только пермесским жаром. На самом Парнасе не бывает страстей, воздух там столь прогрет и разрежен, что одной душе возможно не задохнуться на его горной вышине. Мягкому телу не выдержать давления небес и искуса кручи. И потому на самом Парнасе не бывает ссор, обид и ревнований: Гесиод и Омир, Анакреон и Тасс, Катулл и Парни равно приемлют здесь и высокие песнопения эпических певцов и дружеские безделки баловней Харит. Одного они не терпят — дурных творений и их творцов. Впрочем, холодные стихотворцы и не доползают до тех мест, а дурные стихи не долетают до бессмертных ушей, ибо слишком тяжелы достигать такой высоты. Конечно, и на Парнасе известно об этих стихах и стихотворцах, но лишь косвенно — чрез стихи истинных певцов и любимцев муз, — стихи, бывшие некогда отзвуком посредственных и бездарных.
Помните, какой скандал вышел два года назад, в марте 820-го года, когда Василий Назарьевич Каразин оставил соревнователей без своего просвещенного покровительства? А ведь тогда следом за ним из собрания соревнователей вышли еще несколько сочинителей, и в их числе князь Цертелев и Борька Федоров. Потом, помните? были "Поэты" Кюхельбекера, были послания Каразина Кочубею, высылка Пушкина, отставка Кюхельбекера. Ни Федоров, ни Цертелев не жаловались на баловней ни министру, ни государю, ибо не алкали, как Василий Назарьевич, власти в департаменте призрения общественных нравов. Но, как и Каразин, они негодовали против этих les chevaliers des extrйmitйs [Рыцарей крайностей (фр.).], пролезающих в журналы со своими чашами, сладострастями, вольностями и токованиями, и готовы были вослед Василию Назаровичу возвестить нечто весомо нравоучительное на счет разврата духа. Что-нибудь вроде: "Безнравственность печати не может учить нравственности'". Или как-нибудь так: "Цепь приправленных отравой цинизма разочарований гасит здоровую радость молодости". — Подобные заклинания живут на устах самолюбивых посредственностей во все времена, то переходя в шепот доноса, то публично грозя расправой. По счастью, Федоров и Цертелев в ту пору не принадлежали к числу ни секретных осведомителей, ни клеймящих трибунов. — Впрочем, Федоров еще дойдет до степеней доносительских — через двадцать лет; но такое уж тогда настанет Время.
А сейчас, летом 822-го года петербургским любителям словесности Федоров готовит подарок — две эпиграммы на Дельвига — те самые, что осенью Александр Ефимович поместит в "Благонамеренном" за подписью Д. и Б.Д. (то есть за подписью самого Дельвига). Кроме приближенных к Измайлову, никто, разумеется, не знает истинного сочинителя, и сам Дельвиг, видимо, подозревает в равной степени и Александра Ефимовича, и Остолопова, но, кажется, он считает, что это проделки Сомова, а на Федорова не думает. Не знаем, стал ли Федоров Борькой благодаря Дельвигу или уже назывался Борькой, когда его так назвал Дельвиг, только известно, что самое площадное свое сочинение Дельвиг написал именно про него: Федорова Борьки Мадригалы горьки, Комедии тупы, Трагедии глупы, Эпиграммы сладки. И, как он, всем гадки.
Федоров был в 822-м году по возрасту молодым человеком 24-х лет, по службе — секретарем Александра Ивановича Тургенева в департаменте духовных дел, по дружбе — сочувственником Александра Ефимовича Измайлова и душевным приятелем Панаева. Он сочинял столько, сколько не писывали за год Хвостов и Шаховской, обоюдно взятые. Зато он был не только застрельщиком подлепарнасских сшибок, но и сражался после начала битвы до последней капли. Эпиграммы же его на Дельвига не были ни сладки, ни горьки и имели целью изобличить великую сонливость барона, воспетую самим Дельвигом и всеми его друзьями. Первая эпиграмма называлась "Эпитафия баловню-поэту"; вторая — "К портрету NN". "Его будили — нынче нет, — писал Борька про Дельвига. — Теперь-то счастлив наш Поэт!" Вторая эпиграмма имела ту же дозу веселости.
Но кажется нам, не Федоров тогда первым начал и его эпиграммы явились уже после помянутых 11-ти куплетов…
Июль был жаркий и многолюдный; вместе с гвардией вернулись Болтин и Чернышев. Боратынский и Коншин еще оставались в Петербурге.
— Друзья! — восклицал, веселея, Коншин, — сегодня невзначай пришла мне мысль благая вас звать в Семеновский, на чай. — В Семеновских ротах квартировали до августовского выхода в Финляндию многие нейшлотцы. — Иди, семья лихая!.. Приди, Евгений, мой поэт, как брат, любимый нами, ты опорожнил чашу бед, поссорясь с небесами… И Дельвиг, председатель муз, и вождь, и муж совета, покинь всегдашней лени груз, бреди на зов поэта… И Чернышев, приятель, хват… Болтин-улан, тебе челом, мудрец златого века!.. Дай руку, брат, иди ко мне, затянем круговою! Прямые радости одне за чашей пуншевою… — Клич Коншина назывался: К нашим ("Не ваш, простите, господа; не шумными иду путями", — отвечал потом всем нашим Борька).