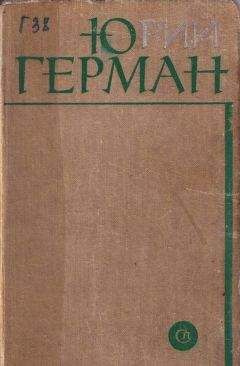- Вообще здорово сильный был старикан! - сказал Олег. - Выносливый замечательно, англизированный тип.
- Какой, какой? - спросил Лапшин.
- Англизированный! - повторил Олег. - Ну, в общем, англосакс по натуре.
- Это Самойленко-то?
- Ходок мировецкий! - заметил Глеб. - Недаром он свои ноги называл ходилками. Он нам многое дал в смысле тренинга.
Положив ладони на стол, Лапшин внимательно глядел на обоих братьев. Пожалуй, единственное, что уважали эти профессорские сынки, - была физическая сила. Перед силой оба юноши благоговели. И убитого ими Самойленко они ценили не за то, что всю жизнь он честно и умно трудился, не за то, что научил также трудиться многие десятки, если не сотни людей, не за то, что ходил он с винтовкой на Юденича, воевал всю гражданскую и все же оставался скромнейшим человеком, а только за то, что у него были "феноменальные", по их выражению, бицепсы, "неслыханный объем" легких и "чудовищное" какое-то "второе дыхание".
- Вообще, старикан неправильно построил свою жизнь, - сказал Олег доверительно. - Ему, конечно, следовало идти на тяжелую атлетику, и притом профессионально...
Глеб подтвердил задумчиво:
- Не сработал котелок. Мог бы мировое имя схватить. И жил бы как боженька, а на старости в тренеры или в судьи подался бы. Вплоть до заграничных поездок, такие товарищи всё имеют...
Постепенно братья начали болтать.
Потом на мгновение они испугались, потом опять заговорили на самые невинные темы - спорт, охота, закаливание организма, доброе здоровье. Они очень следили за собой, они, наверное, хотели долго жить, они любили себя, свое крепкое самочувствие, они, конечно, следили за зубами, "за полостью рта", как выразился Глеб. И гимнастикой они занимались всегда, в любых условиях, с детства.
- Укрепляющей! - пояснил Олег.
Лапшин не прерывал их. Пусть вымотаются, не зная, чего он хочет от них, не понимая, почему так внимательно слушает. Пусть переглядываются, пугаясь его спокойствия. Пусть совершённое преступление перестанут они выдавать за случайность, за происшествие, которое будет наказано условно, а при помощи папиного имени - просто общественным порицанием.
И неожиданно для них, во всем, как им казалось, чистосердечно сознавшихся, Иван Михайлович стал шаг за шагом, но не с их точки зрения, а со своей, восстанавливать подробную картину выезда на охоту, прибытия на место и последующих затем событий. Последующие события, даже не самый выстрел, а то, что произошло после, вслед за выстрелом, интересовали его. И чем дальше и подробнее он рассказывал им, как они слышали стоны и крики ими раненного человека и уходили от этих стонов и криков, превращая тем самым ненамеренный выстрел в неизмеримо более страшное преступление, - тем серее становились лица братьев, тем чаще пытались они перебить Лапшина возгласами жалостными и почти что даже слезными, и тем неожиданнее делался для них заранее подготовленный вопрос по поводу давней драки во дворе на Фонтанке, за штабелями кирпича...
Как бы для того, чтобы достать папиросы или блокнот, Лапшин открыл ящик своего письменного стола и мгновенно, в ничтожную долю секунды положил перед братьями финский нож с коричневой роговой ручкой, тот самый нож, которым якобы ударил ни в чем не повинного Борю Кошелева босяк и хулиган, дворовый мучитель Алешка Жмакин.
- Чей? - жестко и быстро спросил Лапшин. - Чья финка? Только скорее отвечайте, потому что я теперь понимаю, кому этот нож мог принадлежать и кто в самом деле этим ножом ударил. Ну? Чей нож?
Олег острым красным языком облизал губы и с ужасом взглянул на брата, но нет такого прибора, который мог бы засечь и представить суду на рассмотрение этот, все объясняющий разговор преступников взглядами, нужен протокол, и, как известно, даже сознание обвиняемого недостаточно без многих прочих юридических атрибутов, поэтому переглядка братьев ничему не помогла в следствии, не помогла даже лично Лапшину, и так абсолютно убежденному в той версии, которую выработали они с Бочковым и Криничным. Для начала ему нужно было сознание, но он его не добился сразу и понял, что братья теперь станут все отрицать, потому что история с ножом проливала новый свет на характеры братьев Невзоровых и на то, что убийство Самойленко вовсе не простая случайность, хотя и трагическая, но нечто совсем иное, гораздо более отвратительное, и такое, что уходит корнями куда глубже, чем выстрел на болоте. Братья это поняли, взгляды их стали как в былые времена - прямыми, в два голоса они ответили:
- Не знаем!
Ах, если бы можно было привести Жмакина сюда, если бы не плакал он сейчас на своей привинченной койке в клинике для душевнобольных, если бы не умер от менингита честный и хороший паренек Боря Кошелев, если бы не запутал на корню много лет назад все дело Митрохин!
- Значит, вы не знаете, Невзоровы, чей это нож?
Нет, они не знали. И не желают, чтобы им "шили" чужое дело. Не такие они дурачки, гражданин начальник. Они в тюрьме тоже кое-чему научились. Их предупредили, что начальнички любят раскрываемость и ради того, чтобы побольше раскрыть нераскрытых дел, пользуются и уговорами, и папиросками угощают, и грозятся, и иное всякое разное устраивают. Но с братьями Невзоровыми не выйдет. Да, они очень виноваты в смерти Самойленко. Но они, в сущности, даже и не помнят, как его бросили. Конечно, это безобразие с их стороны, и они готовы понести заслуженное наказание. Но надо учесть, что с "фактором" смерти они столкнулись впервые. Откуда им могло "вскочить" в голову, что такой "дуб" и здоровяк, как Самойленко, возьмет и умрет. Они испугались, что "поранили" его и что он ругаться станет на них, это надо учесть. Испугались, а когда опомнились - уже поздно было.
- А вы разве опомнились? - осведомился Лапшин.
- А мы, по-вашему, такие закоренелые преступники? - воскликнул Олег.
- Не выйдет! - сказал Глеб. - Не выйдет показательный процессик из нас организовать! Не удастся, гражданин начальник! Не на таких напали!
В два голоса они не оправдывались, нет, нисколько, они вели наступление. Сколько раз в своей жизни Лапшин уже слышал такие слова: об отце, которого знают "наверху". О чести спортивной организации, в которой "кое-кто заинтересован настолько, что не позволит запятнать честь этой организации". О старшем брате какого-то Зейдлица. Сколько раз он слушал и не слышал всякие эдакие угрозы...
И об адвокатах они рассказали.
Им не нравится здешнее отношение к адвокатам.
- Чем же оно вам не нравится? - вежливо спросил Лапшин. - У нас все по закону. Придет время, и будет у вас адвокат, какого пожелаете. Адвокаты есть замечательные...
Это они знают. Он их может не учить насчет адвокатов. И своего адвоката ему не удастся им подсунуть. У их папы, и у друзей отца, и у друзей Зейдлица много знакомых знаменитых адвокатов, крупнейших, с всесоюзными именами, и наступит день, когда они своим адвокатам (а у каждого из братьев будет знаменитый адвокат) расскажут обо всем, и о том, в частности, как велось следствие, как вдруг вынимался какой-то нож и как им "шилось" дело, о котором они и понятия не имели. И на суде они тоже доведут этот эпизодик до всеобщего сведения, не побоятся.
Иван Михайлович опять их почти не слушал, задумавшись и вспоминая. Это нигде не было зафиксировано, ни в одном документе из поднятых Бочковым, но он почему-то помнил, ясно помнил, то ли со слов Жмакина, то ли еще откуда-то, что в драке на Фонтанке косвенным образом была замешана девочка, во всяком случае, какое-то еще одно имя - наверное, Аля. И, приказав увести Невзоровых, он принялся перекладывать листы в папке. Никакой ни Али, ни Ляли, ни Нали он нигде не обнаружил, но все время, листая, морщился и даже кряхтел, принуждая себя вспомнить - откуда привязалось это имя. Потом с досадой захлопнул папку, вышел к Бочкову и спросил - откуда привязалось к нему это имя. И Бочков спокойно, как всегда, ответил:
- Так я же вам докладывал, товарищ начальник; в записке, что Жмакин, перед тем как резаться, написал Митрохину, есть гражданка Неля, которую Митрохин якобы не допросил, чем участь Жмакина и была решена. Только записку эту Митрохин мне не дал, как нецензурную, а тут же уничтожил. Я вам и доложил - еще Нелю нужно найти. А вы в это время говорили по телефону.
- Давайте ищите мне немедленно эту самую Нелю.
- Слушаюсь, - вставая и обдергивая гимнастерку, сказал Бочков. - Можно ехать?
Кивнув, Лапшин пинком ноги отворил дверь и пошел к Митрохину. Зачем он не совсем еще понимал. Но не пойти именно сейчас он не мог. В конце концов, не мог он всегда сдерживаться. Все в нем кипело, когда он шел переходами Управления и когда на разные лады успокаивал себя. Ужели нет Митрохину никакого дела, что по его вине срок получил не только ни в чем не повинный человек, но человек, который защищал слабейшего от двух сильных? Неужели может он спокойно сидеть в своем кресле, рассуждать, приказывать, потом спокойно укладываться спать, пить чай?