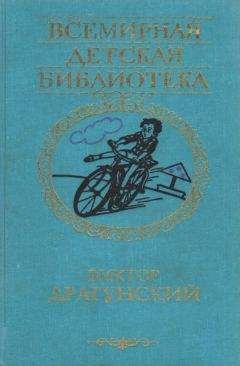то ее постаревшее лицо не понравится ему. И Дмитрий Васильевич тотчас же понял все это и мгновенно узнал ее, и ему стало мучительно встретить ее такой жалкой. Но радость взяла свое, и он сказал, глядя в трепетное и растерянное лицо женщины:
– Катя!.. Катя, милая!
И, видно, была в его голосе настоящая правда и живое тепло, потому что женщина вдруг вспыхнула от его ласки вся, до корней волос, зарумянилась, как девочка, и протянула руки к Дмитрию Васильевичу, и он взял их, и почувствовал жесткую наработанную кожу на ладонях, и сжал их с силой, и наклонил к ним голову, собираясь поцеловать…
Из-за буфета вынырнул распухший человек, рыхлый и обвисший, в измятом пиджаке. Опершись о стойку, он закричал тонким, капризным голосом:
– Баринова! Сдавайте чеки, сколько раз повторять! Вы в уме?
Катя испуганно вырвала свои пальцы из рук Дмитрия Васильевича:
– Я сейчас… Сейчас…
И она побежала на зов буфетчика, и Дмитрий Васильевич посмотрел ей вслед и увидел Катины растоптанные босоножки и пятки ее, широкие и тоже растоптанные. Дмитрий Васильевич не стал прислушиваться к ее разговору с распухшим человеком. Он ничего не слышал и не помнил сейчас, кроме той веселой июньской ночи, когда он сидел со своими друзьями в этом зале, а вокруг плясала и пела песни московская молодежь. И никто из присутствующих не знал тогда, что это, может быть, последняя счастливая ночь в его жизни, что вслед за ней, этой теплой, шумливой и дружелюбной ночью, придет утро, а с ним свинцовое горе, и разлука, и дороги, дороги, дороги, чудовищные, вязкие, трудные, политые кровью дороги, обставленные по обочинам невысокими, наспех сколоченными, бедными деревянными обелисками с вечными звездами наверху. Да, никто тогда ничего такого не знал, и какая же искренняя, горячая и белая была эта июньская ночь! Молодые песни летали вокруг, и Дмитрий Васильевич пел эти песни вместе со всеми, и высокая красивая девушка с ясными серыми глазами подавала ему тогда имеретинское вино. Оно было совсем легкое, зеленое и дешевое, и казалось, его можно выпить сколько угодно, но оно было сумасшедшее, это вино. После первых же двух стаканов занавески на окнах показались ему парусами, они хлопали на ветру, и палубу, на которой кружились пары, качало из стороны в сторону, и посуда слетала со стола, видно, ветер крепчал. И эта девушка присела к нему за стол, и они стали глядеть друг на друга, а его друзья стали над ними шутить и смеяться, но он не обращал на дураков никакого внимания. Девушка была хоть и рослая, но хрупкая, и было в ней удивительное чувство достоинства и милая грация. Руки были у нее длинные, пальцы тоже длинные и тонкие, и Дмитрий Васильевич глаз не мог от нее отвести. Она смеялась тогда мало, а всё почему-то задумывалась, и вздыхала, и смотрела ему в глаза глубоко и серьезно, и пила зеленоватое вино маленькими глотками. Она показала ему тогда на странное пятно на потолке и сказала:
– На что похоже? На облако?
– Нет, – сказал он, – похоже на далекий прекрасный остров…
– На какой? – сказала она.
– Я не знаю, – сказал он.
И она засмеялась, глядя на него из-за края бокала. И они снова выпили, а когда все разошлись, он помогал официанткам снимать скатерти и сдвигать столы, и девушки помыкали им напропалую, и он толкался среди них как неприкаянный. Потом он сидел в углу возле огромной кучи смятых скатертей, и ждал Катю, и купил еще бутылку имеретинского и яблок. Покуда он стоял у буфета, он потерял Катю из вида и подумал, что она убежала от него, и от этой мысли его прямо-таки затрясло. Но она вышла к нему уже без наколки и фартука и оказалась еще краше. Они вышли на улицу, и прошли по спящему предрассветному городу, и неожиданно очутились на набережной. Река лежала в берегах, налитая до краев, тугая и недвижная. Торец стоящего на том берегу здания сверкал, как драгоценный. Это всплывало солнце. И Дмитрию Васильевичу, наверное, нужно было тогда поговорить с Катей, сказать ей и объяснить все, что было на душе, но он думал, что успеется, и молчал. И Катя тоже молчала. Ничего не нужно было говорить в эти минуты, они стояли так в розовом рассвете, молчали, хрустели яблоками и попивали зеленоватое винцо прямо из горлышка. И Дмитрий Васильевич поцеловал тогда Катю в прохладные яблочные губы, и она тоже поцеловала его…
…И с тех пор, дорогие друзья, прошло более двадцати лет.
Катя стояла у буфета в какой-то смущенной поникшей позе, и распухший буфетчик, шлепая похожими на оладьи губами, отчитывал ее за что-то.
Видно было, что Кате это невмоготу, трудно и что она рада была бы сквозь землю провалиться, только не стоять бы такой старой и усталой перед этим типом. Дмитрию Васильевичу захотелось, чтобы она вернулась поскорее к нему, к его столику, ему понятно было, что и ей хочется поговорить с ним, быть к нему поближе, постоять подле него, может быть, условиться, но сейчас нельзя, надо терпеть, нельзя, служба, дисциплина, ничего не поделаешь.
Буфетчик стал щелкать костяшками счетов, неприятно кривясь и все не отпуская Катю. Дмитрий Васильевич смотрел на него и чувствовал, как в его груди поднимается тяжелое яростное чувство. Он повернулся всем корпусом к буфету.
– На пенсию пора! – Буфетчик распалился от злости и повысил голос. – Хочешь работать – работай, нечего тут тары-бары разводить, фигели-мигели всякие! А не хочешь работать – на пенсию, пожалуйста. На пенсию! По старости!
Дмитрий Васильевич увидел, как Катя опустила голову, и густая краска залила ее шею, и двумя руками Катя закрыла лицо, словно собираясь горько заплакать. Но Дмитрий Васильевич не дал ей заплакать. Он с грохотом откинул стул и пошел к буфету. С трудом превозмогая острую боль в лопатке, он сделал несколько тяжелых шагов и оказался у стойки. Побелевшие его губы передернулись и затряслись. Он протянул руки и, туго ухватив отвороты измятого белого пиджака, ненавистно прохрипел:
– Не сметь на Катю орать! Слышишь? Слышишь, ты, сволочь!..
Потом он упал. И, глядя мимо плачущей Катюши на странное пятно на потолке, он понял, что оно похоже на Борнео.
Каждый год в конце ноября, в условленный день, Мария Кондратьевна просыпается задолго до рассвета и некоторое время тихо лежит в постели, стараясь не шевелиться и глядя прямо перед собой в тускло сереющее узкое окно. Сердце ее бьется


![Где это видано, где это слыхано…[сборник 2021] - Виктор Юзефович Драгунский](https://cdn.my-library.info/books/340939/340939.jpg)