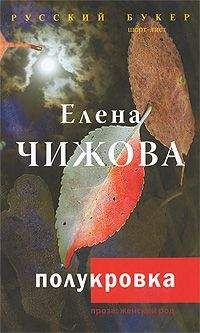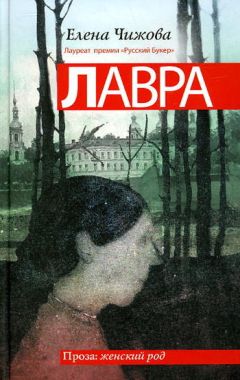Старуха кивала, собирая рот куриной гузкой и сохраняя привычное смиренное выражение. Подслушав и поразившись, я присматривалась внимательнее. Нелепый диалог, который, учитывая глухое старушечье молчание, с большой натяжкой можно было признать таковым, повернул мои мысли в другую сторону. Странная сцена, не имеющая отношения к сути печального обряда, разыгрывалась на моих глазах: посланцы проштрафившегося Ватикана стояли перед многотысячной толпой, заранее убежденной в их
виновности. Этой волны, исходящей из чужих глаз, они не могли не чувствовать. То придавая лицам сдержанное выражение осознанной и многозначащей потери, то отводя взгляды от резного, подарочного гроба, они стояли тихо и чинно, терпеливо пережидая нескончаемые повороты невнятной для их слуха восточной литургии. Неразличимое море лиц колыхалось, достигая их берега, на который, словно бочку из пучины, вынесло продолговатый, наглухо задраенный ящик. Их римское нутро задавалось вопросом: "Кому выгодно?", и резонный ответ, которого они не могли не дать себе, отправляясь в дорогу, давал им надежду на если не радушный, то, по крайней мере, сочувственный прием. В случившейся трагедии их начальство повело себя безупречным образом, обеспечив дубово-цинковый сосуд и - в их двойном лице - выслав вслед достойное посольство. Римское право, наследниками которого приехавшие, несомненно, были, не могло бы придумать - в сложившихся обстоятельствах - лучшей основы их дипломатической неприкосновенности.
Они предусмотрели все, кроме многотысячных глаз, само выражение которых, знать не зная их римского права, восходило непосредственно к средним векам. Эти глаза, утяжеленные восточными веками, источали сдержанную враждебность. Нелепость заключалась в том, что и сами епископы, в известном смысле, восходили туда же. Чего стоили их ровные средневековые челки, добрый десяток столетий покрывающие лбы! Однако внешняя средневековость папских посланников, положенная на доскональное знание римского права, как псалом на музыку, оказывалась всего лишь красивой и крепкой культурной традицией, совершенно безопасной именно благодаря своей многовековой выдержанности. В этом случае действуют едва ли не винодельческие законы. Народ же, перед которым стояли эти выдержанные в дубовых бочках напитки, казалось, еще бурлил и зрел, - по крайней мере, крепкий глоток невызревшей медовухи способен был раскачать и самую трезвую голову. Этот народ, перед которым они теперь стояли, отрицал всяческую античность, раз и навсегда сочтя ее тупиковой ветвью духовного развития. Тысячу лет назад обернувшийся к Востоку, он чуждался опыта, накопленного Западом. Несть ни эллина, ни иудея, произнесенное по-русски, прорастало другим, добавочным смыслом, коренившимся в слове - несть. Ни эллина, ни иудея, ни римлянина, ни иезуита, не Лютера, ни папы - лишенные нейтрализующих частиц, эти слова становились ругательными. От них - чужих и еретических - следовало открещиваться до последнего, сбиваясь плечом к плечу в теплом пространстве под куполами.
В тоске, перехватившей горло, я думала о том, что уехавший отсюда живым лежит в запаянном свинце, окруженный радостями избавления, но никто из заполнивших храм не может сказать наверное, он или другой скрывается под искусной дубовой резьбой. Гроб не позволили вскрыть санитарные власти, но если бы породистые католики могли заглянуть поглубже, они прочли бы невысказанное обвинение и в том, что это по их - католической - милости гроб стоит закрытым. Странная мысль точила меня: я никак не могла понять, каким образом сочетаются в одно два противоречивых чувства: обвиняющая ненависть к католикам и слова молодой монахини о принадлежности главных действующих лиц к ватиканскому братству? Они сочетались.
Ирмосы Великого канона - горестный плач о Помощнике и Покровителе дрожали в моем сердце: оно выпевало с маленьких букв, беззаконно относя рухнувшую надежду о помощи к почившему владыке. Время от времени по толпе проносились глухие всхлипы, и всякий раз римские выбритые лица напрягались и моргали растерянно. Я смотрела, не веря глазам. Не будь я свидетелем бесконечно утрясавшихся деталей их встречи и расселения, я приняла бы за подставных кукол - похожих на наших с Митей вымышленных персонажей - которых специально нарядили и поставили для того, чтобы своими совестливыми гримасками они отводили правду о тех, кто в действительности изрешетил осколками новопреставленное сердце.
Зоркими глазами я вглядывалась в лица сослужащих, и сердце мое, оскорбленное неправдой, видело ее приметы, как будто стало опытным диагностом, умеющим со взгляда, не прибегая к сложным анализам, различить черты хронической, загнанной вовнутрь болезни. Служба складывалась легко и слаженно, как будто время, приносящее усталость, не имело над клиром ни малейшей власти. Точно и торжественно подавались возгласы, негасимые кадильницы дымились в дьяконских руках, но в этой приятной слаженности никак не тонуло очевидное: несчастный владыка Николай, любимый ученик усопшего, оставался словно бы в стороне. Горе, дрожавшее в его чертах, придавало им необычную, едва заметную подвижность, которую я, глядевшая сострадающими глазами, уловила.
Нет-нет, ни в коем случае я не хочу сказать, что братия подчеркивала его новую, незащищенную обособленность. Все сохраняло черты подобающего благообразия, но в то же время как будто выходило само собой: начиная с этой службы владыка Николай стоял один - в память Никодима - против их всех. Эта мягкая обособленность, похожая на дружескую подсказку, не была непреклонной: она оставляла выход, который, посмей обособленность говорить, разрешился бы одним, но необходимейшим словом: отречение. Эта подсказка ломала жесткий рот Николая, когда, подавая очередной возглас, он встречался глазами то с одним, то с другим из сослужащих.
Час за часом неслись под купол торжественные песнопения, и древняя красота обряда брала свое: напряженные сердца смягчались естественной грустью, и, глядя на крышку выставленного на возвышение гроба, я думала о прощании с тем, чей голос, спеленутый враждебной волей, много раз исторгал мои слезы, защищая от ужаса смерти. На исходе шестого часа владыка Николай вышел и встал перед лицом народа. На его собственном лице лежала живая и непреклонная решимость: высказать последнюю правду - тем и о тех, с кем привычным и умелым голосом говорил его учитель в своих, глушащих чужие следы, покоях. Облыжно обвиненные римляне повернулись к нему с надеждой.
"Трудно говорить пред гробом, но пред таким гробом говорить еще труднее", - он начал медленно и торжественно. Лицо владыки сохраняло выражение достоинства, но в чертах больше не угадывалось подвижности. Словно совладав с лицом - подавив непреклонную решимость, он уходил все дальше от невысказанной правды. Голос, поднявшийся на частицах, вынутых за упокой гонимых и гонителей, диктовал ему общие человеческие слова. Эти слова о горестном сиротстве были равно пригодными и для тех, и для других. Он говорил о том, что пред этим гробом необходимо забыть о распрях, но не назвал их распрями, терзающими народное тело. Он говорил о скором торжестве единения, которому покойный владыка отдавал свои земные помыслы, но, помянув о мирских пристрастиях, не воскликнул горестно: "Где есть рабов множество и молва!"
Я слизывала слезы, струящиеся вниз по моим будущим морщинам, и чувствовала свинцовую усталость, впрочем, вполне объяснимую тем, что замечательная по красоте речь владыки пришлась на седьмой час бесконечной торжественной службы. Взглянув на запястье, я решительно стерла морщинистые контуры, с которыми не хотела смириться, и вышла на двор, скользнув сквозь щель северных ворот, оставленных приоткрытыми. В пустом замкнутом дворике, начисто лишенном скамеек, я опустилась на асфальт под самую стену и вытянула ноги. Надгробная речь закончилась. За стеною пели: "Придите, последнее целование дадим, братие", а может быть, мне слышалось: так и не увидев владыку, безгласна и бездыханна, я плакала, как если бы вернулась к бабушкиному гробу, уже однажды заколоченному наглухо прежде моего целования.
На кладбище я не пошла. Выйдя за ворота, я оглядела огромную толпу, не вместившуюся в собор, и с удивлением отметила, что на этот раз на подступах к лавре не выставили рогаток. Все выглядело так, словно власть приглашала всех желающих убедиться в истинности его смерти, которая, по странному стечению обстоятельств, случилась где-то там, вдали от спасающей Родины.
Народу, действительно, набралось. Сквозь толпу, дожидавшуюся выноса (говорили, что до близкого Никольского кладбища гроб понесут на руках), я пробралась к мостику и, миновав лаврский Некрополь, очутилась на площади. Ранний вечер убывающего лета был теплым и сухим. С тихим шорохом неслись автомобили, въезжающие на мост, и безобразное здание гостиницы "Москва" занималось редкими желтоватыми окнами. Иностранцы возвращались с дневных экскурсий. Теперь они принимали душ, готовясь к вечернему выходу. Я шла, поглядывая по сторонам, и убеждалась в том, что все остается по-прежнему, как будто толпа, оставшаяся за моей спиной, существовала в другом измерении, неразличимом и безвидном. В этом же - невидимом - измерении стоял резной подарочный гроб, не имевший ни малейшего отношения к тем, кого похоронят в купленных - ситцевых и красноватых. Они шли мне навстречу, торопясь по своим делам. Общность будущих гробов примиряла их друг с другом, по крайней мере, в моих глазах. Обернувшись назад, я уловила далекий перезвон и, различив пасхальное песнопение "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ", мотнула головой, не поверив.