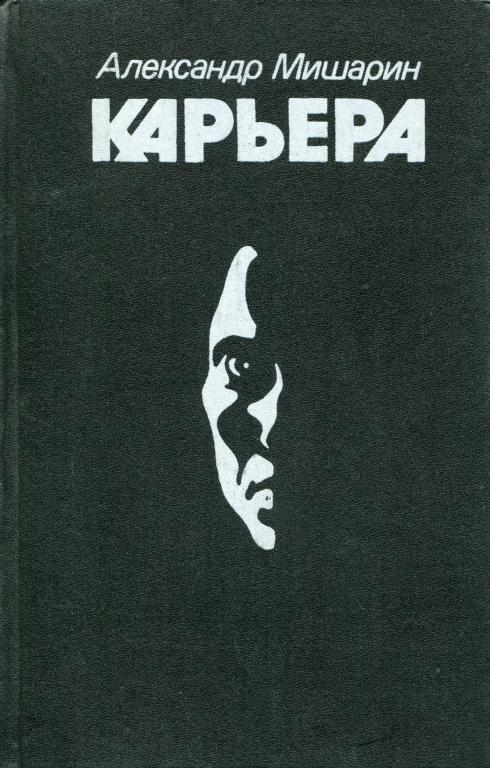была еще зверски холодная, но он, для того чтобы покрасоваться перед Машенькой, бросился в реку. Быстро, отчаянно хохоча, поплыл от берега, оглядываясь и махая ей рукой.
Она стояла на низком, свежезеленом берегу в одном купальнике и испуганно-растроганно смотрела на него.
— Ой! Тону! — взвизгнул Иван. «От шутовства, от гаерства, от молодой радости!» И скрылся под водой.
Когда он вынырнул, Машеньки на берегу не было. Через мгновение он с ужасом заметил, что она плывет к нему.
Увидев его шалую, веселящуюся, здоровую физиономию, она вдруг застыла в воде.
Когда он вытащил ее на прибрежную зелень, Машенька еле дышала.
Тогда он… (Была — не была!) Попытался обнять ее. Она еле смогла отодвинуться от него и сказала: «Только что… Мне было страшно за вас…»
— А теперь… А теперь?!
Она, чуть прищурившись, посмотрела на него и произнесла тихо:
— А теперь мне… Стыдно и страшно — с вами!
Подняв полотенце, она начала медленно подниматься по узкой, кривой тропинке к редкой, сквозной роще на косогоре.
А он еще чувствовал грудью, плечами, всем телом ее влажную, холодно-нежную кожу!
На коротком, камском ветру она была, как молодой светлый ожог…
На следующий день он был отправлен в Верхне-Куровск. «Снова! Вокруг его дома эта кутерьма, связанная с приездом Ивана…
С возвращением?!»
Александр Кириллович не ложился в ту ночь. Он сидел в глубоком кресле в теплой куртке. Смотрел в окно, за которым качались тени деревьев, где-то вдалеке вспыхивала зарница.
За лесом проходила железная дорога, и ее неясное, шумное движение периодически напоминало ему, что он еще способен слышать, ощущать, страдать.
Раза два заходила Февронья. Спрашивала, не будет ли он ложиться. Он не отвечал.
Она уходила, продолжала возиться в кухне. Но тоже была неспокойна.
Чехов умер, отвернувшись к стене…
Толстой ушел из дома перед смертью…
Отворачивались! Отворачивались от жизни… — думал Александр Кириллович. — Деятельные! Удивительные! Богом отмеченные люди! А все восставали к концу жизни! Все! Буквально все!
В природе человеческой, что ли, это… «Восстать — перед концом»? Отбросить все, что добился такими трудами?! Истраченной молодостью? Богом данным талантом? Проницательностью?..
А что он мог… отринуть?
Пятнадцать-двадцать лет полузабытого всеми существования?
Почему не написал за это время ни строчки? Что? Нечего было вспомнить? Ни к чему разумному не пришел к последним своим годам?
Александр Кириллович закрыл глаза. Сильно, лихорадочно билось сердце.
А против кого восставать?.. Против Февроньи?
Восставать, когда даже до беседки он не может дойти без чьей-либо помощи?..
Что же такое тогда его обида? Гнев его…
Побоялись хотя бы!.. Возводить напраслину на сына? На его сына?!
…А Логинов все-таки вернулся. Не ночевать же? Что ему в Москве постели не нашлось?
Александр Кириллович попытался вглядеться в то, что было за окном.
«Ну и что. Что значит эта темнота? Ночь? Просто — ночь?!
Какие глупости! Простое отсутствие дневного светила?
Периодическая жизнь в тени, которая покрывает нашу землю?
Только ли… Это?
Время, когда люди должны уходить в сон? В небытие? В свидание со своими сновидениями? С раскрепощенным мозгом…
Тогда почему… Его! Бежит сон?
Почему его старый, обызвестковавшийся мозг сейчас словно охвачен пламенем?
Почему старый, в рубцах, полупарализованный насос все гонит и гонит кровь к голове? К лицу?
Почему не может он — в этой летней ночи! — возвыситься над последними своими днями?
Ну скажи себе! Что ты уже бессилен! Стар! Пусть другие «ищут и обрящут»?
Почему нет смирения… В моей душе?
Ни перед кем… Ни перед кем!
Он достал трость, ткнул ею в форточку. Она открылась со стуком от неожиданно сильного толчка. Хлопнулась о стену и, проскрежетав, остановилась на полпути.
Корсаков прислушался. В доме что-то говорили, передвигали мебель. Очевидно, накрывали стол.
На дворе было оцепенело тихо. Его слух не уловил ничего нового, явственного.
Наконец, он услышал поскрипывание чьих-то новых ботинок. Медленно, но не крадучись, шел мужчина. Остановился, пошел в обратную сторону. К нему подошел другой. Они о чем-то тихо поговорили, так что нельзя было разобрать слов.
Корсаков напрягся и все-таки услышал разговор в неясной, ночной отчетливости.
— Может, смену вызвать? А, Андреич?
— Не ночевать же здесь будут!
— А то и ночевать?
— А тебе, что, работа надоела?
— Работа как работа.
— Нет! Не «как работа»! — строго сказал голос постарше. — У нас работа — особая.
Второй промолчал.
— Не куришь? — строго спросил старший.
— Так — приказали?
— Вот то-то же… Что приказали! А то еще с папироской — на работе. Тоже «фон-барон».
Шаги того, что постарше, стали удаляться. Снова наступила тишина. Второй по-молодому глубоко, почти счастливо вдохнул ночной воздух. Еще и еще раз.
Тихо засмеялся…
Корсакову захотелось позвать его. Чтобы тот подошел к окну, посмотрел на него!
«Когда это… В двадцать втором? Тоже была ночь… И он, оторвавшись от бумаг, выглянул из окна своего вагона. Вдалеке уже светало. И так же, около насыпи, ходил паренек-красноармеец. В шлеме с длинной, с примкнутым штыком, винтовкой.
Молодой-молодой… Бодрый, светлоглазый.
Улыбнулся комиссару! Корсаков — ему… Александр кивнул на встающий рассвет, и паренек подмигнул ему.
Тогда они оба, кажется, были счастливы!
А утром обходным маневром взяли Читу!
Его еще ранило в тот день! Легко. Пулей навылет…»
…И, словно напоминая о себе, чуть заныло плечо.
Все живое еще… Все! Даже рана! И та… жива!
Все живо!
Тогда почему же он, Александр Кириллович Корсаков, еще живой, еще страдающий, надеющийся, полный нежности, гнева, понимания, капризов, властности… Он — единственный центр всего известного ему мира!.. Да, центр его! Пусть только — его мира… Должен отворачиваться к стене? Куда-то бежать? Уходить от самого себя? Когда в нем так много! Всего… Да! И ярости, и