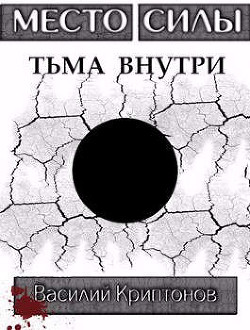глухой, тяжелый голос друга. — Плохо с моим стариком. Езжайте в музей без меня. Я звонил главному хранителю — Христофору Христиановичу. Запомни: Христофор Христианович. Поезжайте, он все сделает.
— Послушай, Аким. Если такая беда, отложим все это к чертовой матери.
— Нет, Ваня. Я не хочу больше иметь дело с этим мерзким типом. Заезжай, забери его: он уже у нас.
— Аким…
Но в трубке уже раздались короткие гудки. Мне хотелось выругаться. Вот плоды нашего с Акимом слюнтяйства: оставили старика одного спорить с этим семейным дуэтом демагогов и крикунов. Доконали те старика.
Я торопливо позавтракал, оделся и отправился ловить машину.
Чуклаев с каким-то типом неопределенного возраста топтался около подъезда акимовского дома.
— Мой зять, — представил его Чуклаев.
— Жорж, — протянул костлявую длинную руку чуклаевский спутник. Глаза его были красные, воспаленные, ни секунды они не задерживались на чем-то одном, на лице с тонкими грузинскими усиками стыла полупрезрительная усмешка, которую можно было отнести ко всему на свете.
— Ой, Аркадьевич, дорогой, — заюлил Чуклаев. — Как хорошо, что ты машину сообразил. Вот уж мученье по Москве на общественном транспорте мотаться. Я сегодня с пяти утра канителюсь, зятя вот захватил…
— Могли бы и не беспокоиться. Груз невелик. И вдвоем бы справились.
Я назвал адрес музея, шофер кивнул, и машина, рыкнув, помчалась вперед.
— Ты не беспокойся, Иван Аркадьевич, — лебезил Чуклаев, — все расходы твои по поездке в Москву я на себя беру. Из-за меня ведь мотаешься столько…
— Если бы вы, Петр Лукич, могли взять на себя и душевные утраты…
— Много же вы хотите, — хмыкнул простуженным или пропитым голосом его зять.
— А что, Лукич? Бери на себя и душевные расходы. Что тебе сделается, ты мужик крепкий.
Чуклаев польщенно пожевал губами.
— Где там? Теперь не то. Вот лет пятнадцать назад вы бы на меня посмотрели!
Машина проскочила несколько шумных магистралей, покружила по узким тихим переулочкам среди особняков с большими садами и скверами, огражденными красивыми литыми решетками, и, скрипнув тормозами, замерла под высокими мощными колоннами серого, мрачного здания.
— Приехали.
Нехотя открылись массивные дубовые двери. Коренастый старик швейцар в темном форменном костюме, в фуражке с желтым галуном строго спросил:
— Вы к кому? Музей еще закрыт.
Чуклаев обеспокоенно уставился на меня:
— Как же так, Иван Аркадьевич?
— Успокойтесь, — грубовато остановил я его. — Пригласите, пожалуйста, Христофора Христиановича.
Швейцар нахмурил серые кочкастые брови.
— Не велено беспокоить.
Но, поразмыслив, подошел к настенному телефону и набрал номер.
— Христофор Христианович, прошу простить. Тут три человека к вам. (Он прикрыл трубку ладонью.) От кого вы, спрашивает.
— От Акима Лаврентьевича.
— От Акима Лаврентьевича, говорят, — механически повторил он в трубку. — Пусть проходят? Прямо к вам? Хорошо.
Швейцар повесил трубку и указал корявым неразгибающимся пальцем в сторону широкой, покрытой дорогой красной ковровой дорожкой лестницы.
— Второй этаж. В самом конце коридора. Увидите.
Стараясь ступать осторожно и тихо, мы прошли длинный коридор. Дверь кабинета, находящегося в самом торце, была приоткрыта. За большим черным старинным столом, огороженным по краям причудливым заборчиком из выточенных миниатюрных башенок и фигурок рыцарей, сидел крупный сухопарый мужчина. Он поднял на нас усталые глаза.
— Не вы ли Христофор Христианович? — спросил я.
— Он самый.
Мужчина встал, и Чуклаев зачем-то протянул ему бумажку с адресом. Христофор Христианович мельком взглянул на нее и протянул назад.
— Кто из вас Иван Аркадьевич Панькин? — строго спросил он.
Я выступил вперед.
— Пишите расписку о получении картины.
Он нажал кнопку звонка в столе. В дверях появился светловолосый молодой человек.
— Вячеслав, принесите, пожалуйста, акимовского апостола.
— Сюда?
— Да.
Христофор Христианович протянул мне раскрытый блокнот, на который положил авторучку, кивнул на низкий столик в углу.
— Располагайтесь.
Водя по бумаге ручкой, я поглядывал на своих спутников; Чуклаев, прищурясь, следил за хозяином кабинета, словно ждал какого-нибудь подвоха, Жорж уставился в пол и старательно разминал, как от ушиба, кисть правой руки.
Я написал расписку и подал ее Христофору Христиановичу. Неторопливо прочитав расписку, тот аккуратно положил ее в папку.
— Пожалуйте ваш паспорт. Необходимо выписать пропуск.
— Видите ли, какое дело… — заговорил я, собираясь сообщить, что картина не моя и пропуск надо выписать на имя Чуклаева, но открылась дверь и появился вернувшийся молодой сотрудник. Он остановился у порога кабинета и, развернув апостола Петра лицом к нам, установил икону себе на грудь.
Никогда я еще не видел такого удивительного реалистического портрета святого — в глазах его, в неуловимо тонком изломе бровей стыла боль. Он не спрашивал ни о чем, он судил и сострадал одновременно. Но судил он людей… за безрассудную покорность богу, так мне вдруг показалось.
Не знаю, какое решение принял бы я во время вчерашнего разговора с Акимом, успей хоть на день, хоть на час раньше увидеть настоящего апостола Петра. Мой друг, несомненно, способный художник, но копия, которую он прислал мне и на которую я подолгу смотрел, любуясь, не могла идти ни в какое сравнение с оригиналом.
— Христофор Христианович, — с болью в голосе сказал я, — это ведь не моя картина.
— Чья же?
Я показал на Чуклаева.
— Надо на товарища Чуклаева выписать пропуск.
— Я, дорогой мой, действую согласно документам, — резко возразил Христофор Христианович. — А в них ваша фамилия. Пожалуйте ваш паспорт.
Он взял мой паспорт, внимательно посмотрел и отдал его белокурому сотруднику, успевшему тщательно упаковать икону.
— Выпишите, Вячеслав, пропуск на товарища Панькина.
Поведение Чуклаева стало непонятным, тревожным. Его взгляд метался по кабинету от Христофора Христиановича к апостолу, потом ко мне, к пишущему пропуск сотруднику…
Сотрудник протянул Христофору Христиановичу мой раскрытый паспорт, на котором лежал зеленый квадратик пропуска. Тот расписался на пропуске и вернул его мне вместе с паспортом. Потом направил мне в грудь прямой, как карандаш, указательный палец и, взмахивая им в такт своим словам, сказал:
— Просьба к вам, товарищ Панькин, берегите эту бесценную картину. Никому ее не отдавайте и не продавайте. А увидите — трудно сберечь, приносите обратно к нам.
Я смутился, что-то пробормотал в ответ, стал прощаться. В этот миг началась та страшная и нелепая история, о которой тяжело рассказывать. Чуклаев коршуном бросился на белокурого сотрудника и вцепился в картину. Тот, растерявшись, выпустил упакованного апостола из рук. Чуклаев свирепо толкнул его и, прижав к груди апостола, бросился бегом по коридору, Жорж устремился за ним.
— Не волнуйтесь! — сказал Христофор Христианович и снял телефонную трубку. Но и этот суровый, спокойный человек, видимо, волновался: палец дважды проскакивал нужную цифру, и главный хранитель музея начинал набирать номер сначала.
Видимо, Чуклаев и Жорж, выходя, сдержали себя, и швейцар спокойно