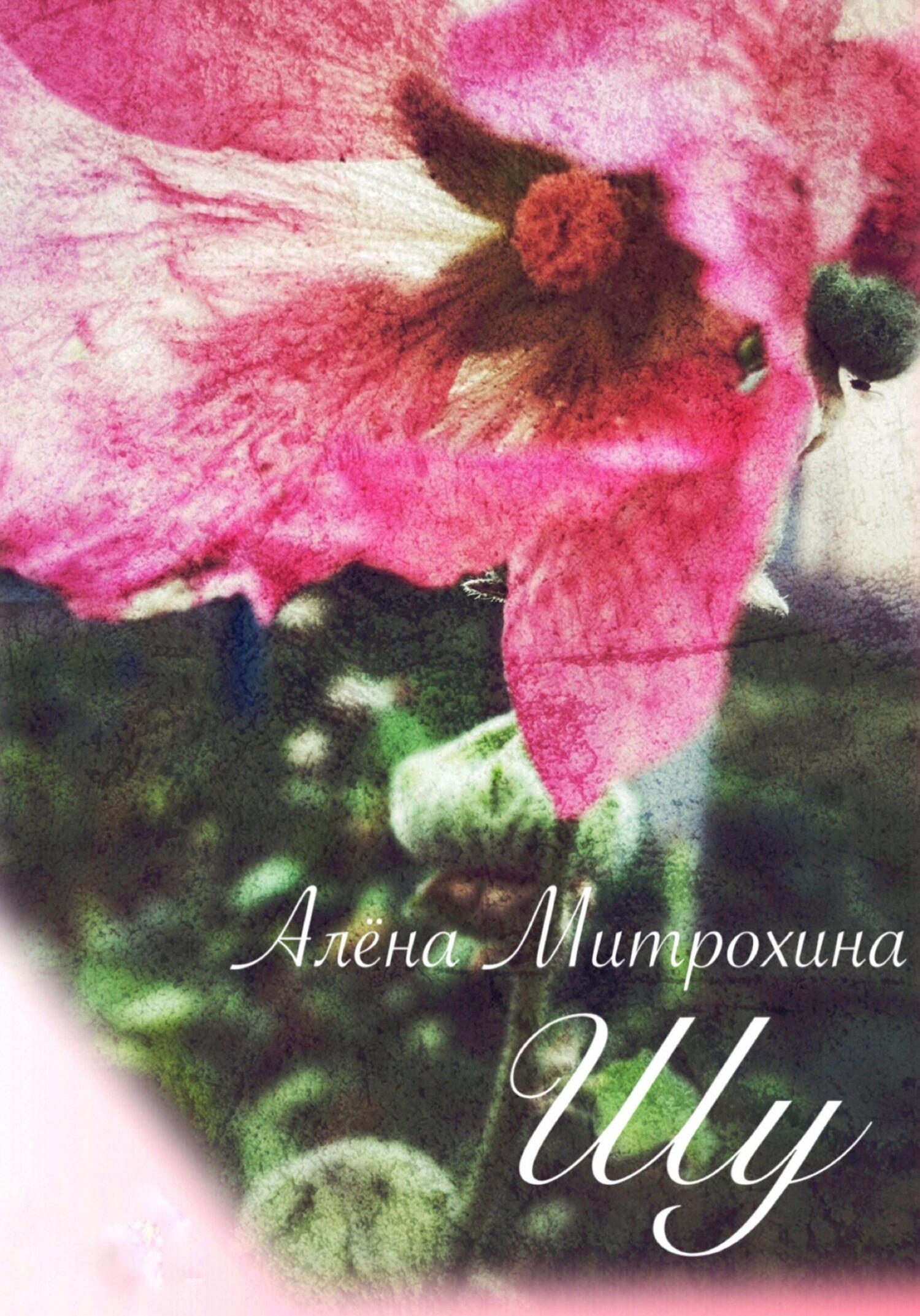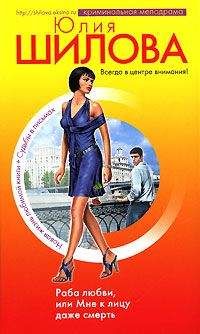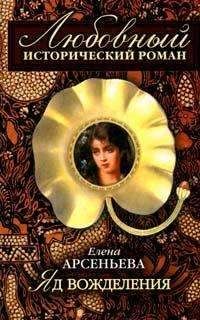гости ко мне придешь? Посмотришь, как живу, с женой познакомлю. Приходи!
– Да что ты, Шу! Мы уже сегодня, я только детей забрать!
И тут Шура случайно перехватил взгляд Марьи Агафоновны, которая смотрела на приемную дочь с такой горечью, разочарованием и даже – Шу готов был поклясться! – ненавистью, что ему стало неловко и за нее, и за Маню, и даже за себя, ставшего невольным свидетелем некрасивой ситуации.
– Мань, машину уберите, я проехать не могу, – еле выдавил он и, ни с кем не попрощавшись, почти бегом покинул участок.
Больше Маню не видел, в их город она так и не вернулась, детей не привозила, и Шу о ней очень скоро позабыл вовсе.
Правда, после той встречи на даче он навестил Марью Агафоновну.
Старая женщина была ему очень рада.
– Шурочка ты мой! – ласково улыбаясь, расставляла она на столе знакомые с детства советские чайные чашки в оранжевый горох, – ну как ты, Шу? Как Наталина?
Вдруг Марья Агафоновна спохватилась и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты. Шурочка, давно не бывавший в ее квартире, оглядывал слегка позабытую, но такую привычную обстановку: сервант с искрящимся острыми бликами хрусталем и сервизом «Мадонна», книжный шкаф с подписными Дюма и Вальтером Скоттом, большие уютные кресла-кровати, которые разбирались специально для припозднившихся и решивших остаться ночевать дорогих гостей – самого Шу и его мамы, отец всегда уходил домой. Правда теперь, вместо знакомых с детства пейзажей и натюрмортов, стены украшали многочисленные фотографии Мани и Оли с Колей, все тех времен, когда они жили у Марьи Агафоновны. Интересно, лениво думал Шура, прихлебывая слабенький чай, неужели нет снимков поновее, надо бы спросить.
– Шурочка, тебе принести конфетку к чаю? – крикнула из кухни Марья Агафоновна.
– Да, Марья Агафоновна! – прокричал он в ответ.
В стеклянной, с металлическими резными ножками, тяжелой конфетнице, принесенной Марьей – пластилиновые Коркуновы и разноцветные морские камешки, желтые самые вкусные.
– Угощайся, угощайся, – хозяйка подвинула вазочку поближе и снова спросила, – ну как ты? Как папа?
Про маму не спросила.
– Да все хорошо, – Коркунов прилип к нёбу и зубам и у Шурика, пытающегося языком очистить рот от шоколадного содержимого, получилось шепелявое «дахсехагашо».
– А мы вот, видишь, одни, – и, словно для наглядности, она обвела вокруг себя рукой, – Виктор Степанович совсем разболелся…
В подтверждении ее слов из спальни раздалось прерывистое покашливание – Виктор Степанович, измотанный диабетом и давлением, практически не выходил из комнаты, не вышел даже поздороваться.
– Не ходи к нему, пусть болеет, – Марья Агафоновна уловила желание Шу зайти к старику, но не хотела, чтоб он увидел неопрятного, немощного, почти ослепшего мужа. Боялась, что Шура расскажет о плачевном состоянии Томе, а такого допустить она никак не могла – из гордости.
Говорить было не о чем и оба надолго замолчали, каждый о своем.
– Ну, я пойду, у меня еще дел куча, – засобирался Шурик. Никаких таких дел у него, конечно, не было, но сидеть дальше в этой гнетущей тишине и невысказанных сожалениях было решительно невозможно.
– Хорошо, Шу, конечно. Заходи, мы с Виктором Степановичем всегда тебе рады, – и она обняла его, привстав на цыпочки, и незаметно положив в карман конфетку, как всегда делала в детстве, а восторженный маленький Шурочка по приходу домой доставал сладкий сюрприз, продлевавший ему праздник совместного с мамиными подружками вечера. Напрочь позабыв о давней традиции, Шу проходил с конфетой в кармане щегольского синего пиджака до самого вечера, растаявшая сладость выползла из тонкой блестящей обертки и размазалась по всему карману, выступив некрасивым коричневым пятном сквозь подкладку. И хоть химчистка удалила грязь без следа, Наталина еще долго ворчала – пиджак был новый и дорогой.
А после вышло, что тот визит его к Марье Агафоновне был последним. Через несколько дней мама, моя посуду после совместного обеда, вдруг спросила:
– Шу, милый, а ты зачем к Марье ходил?
От неожиданного вопроса Шура поперхнулся кофе:
– А что такого, мам? Ну ходил. Они там совсем одни, Виктор Степанович сильно болеет. Да ты чего, мам? Всё эти помидоры не можешь забыть? Так ведь сколько лет про…
Договорить не успел, мать повернулась к сыну, посмотрела пристальным, почти незнакомым взглядом и чужим голосом сказала:
– Ты что ли дурак, Саша?
Потом снова включила кран и продолжила, как ни в чем не бывало, оттирать сковородку.
Шурик струхнул. Испугался. И дело не в холодном, почти уничтожающем – а унижающем уж точно! – материнском взгляде. Мама никогда не позволяла себе грубого слова, она даже в обыденной, повседневной речи почти всегда говорила уменьшительно-ласкательно – не суп, а супик, не школа, а школочка, не мусор, а мусорок, не кресло, а креслице, ну и так далее, и тому подобное… Помадка (в кармане ее халата всегда лежала губная помада и время от времени мама привычным жестом чиркала по губам, делала ими почти неуловимое движение, и губы мгновенно начинали блестеть насыщенной фуксией), тряпочка (даже если грязная, для пола), газетка, хохличек (это о нем, Шурочке), волОски (она очень любила длинные прически и радовалась, когда Шу долго не стригся)… К этой сюсюкающей манере долго привыкала Наталина и после каждого посещения родителей фыркала:
– Слушай, я как будто в доме для слабоумных побывала или в яслях для младенцев! Почему Тамара Яковлевна так разговаривает?
Наталина и его имя «Шу» не воспринимала, говорила, что Шу – это пирожное или, на худой конец, собачья кличка, а он, мол, не лакомство и уж точно не собака. Жена звала его исключительно Александр или Саша.
Но мама, мама никогда не грубила и ни разу, сколько он себя помнил, не обращалась к нему так. Поэтому брошенные ему в лицо слова про дурака и Сашу потрясли и отбили у него всякое желание навещать бывшую мамину товарку.
Теперь из шести волшебниц его детства осталось только две – мама и Надежда Сергеевна. Хотя правильнее будет сказать не две, а полторы.
Надежда Сергеевна доживала свои дни в Шуриной детской в компании с известным немцем – Альцгеймером.
Первые сигналы болезни уловила бдительная и многоопытная мама – какие только пациенты не проходили через ее руки, в том числе и такие, с деменцией.
А началось с того, что Надежда Сергеевна стала неожиданно называть Шурочку именем своего давно погибшего сына, Игорька. Прошло больше сорока лет, как он повесился, и вспоминала его Надежда только раз в год, в сентябре, в день его рождения. И то не вспоминала – поминала. Ездила в памятную дату на кладбище, часто возил Шура, но на могилу вместе с ней не ходил, ждал у ворот. Повез и в этот раз, да только когда приехали на погост, она вдруг спросила: «Игорек, а ты меня зачем на могилы привез? Или умер кто, а