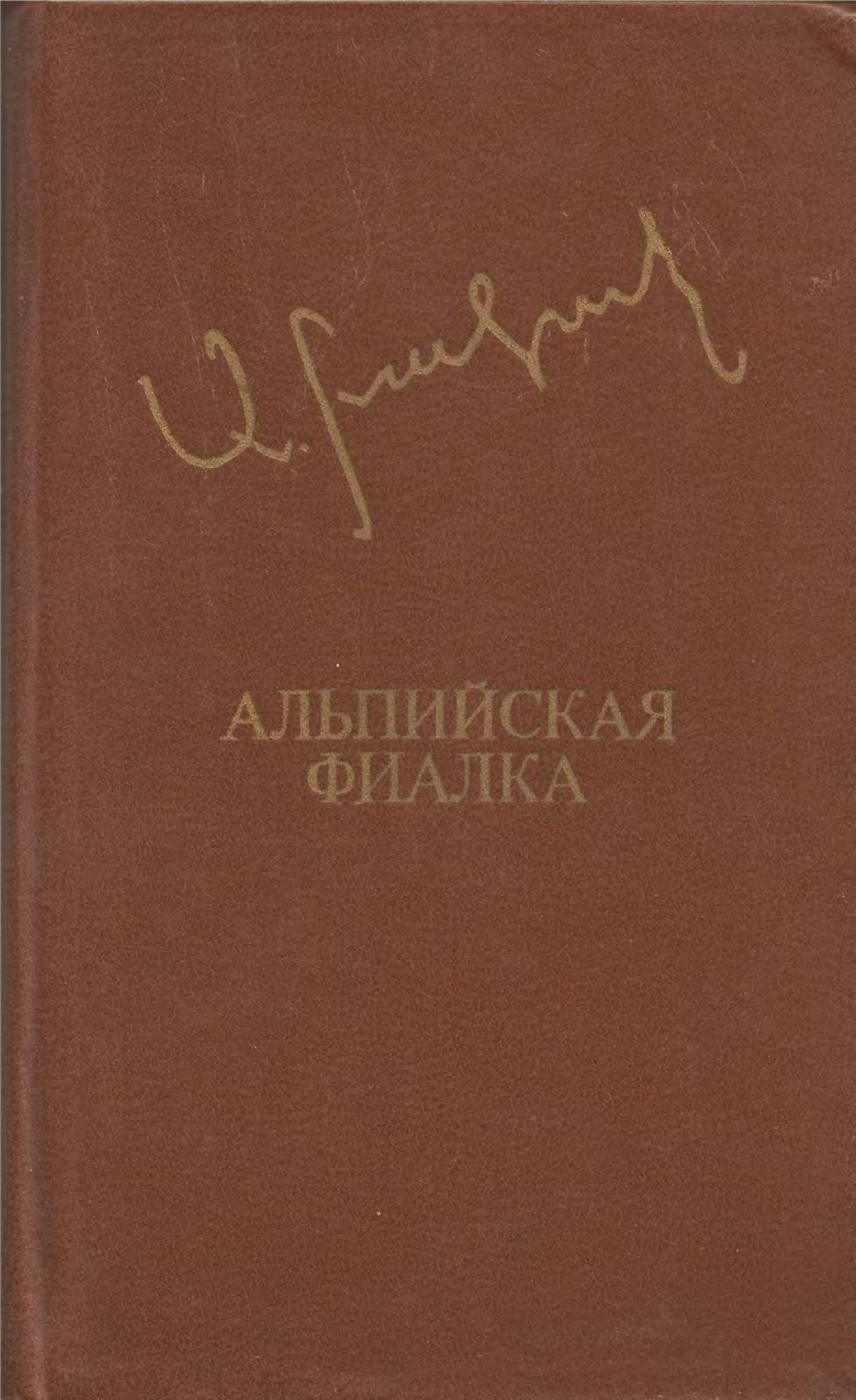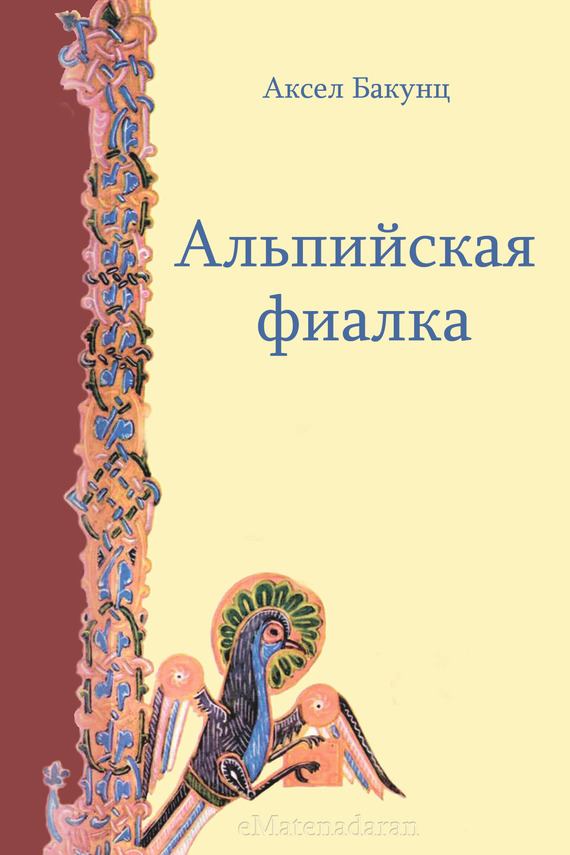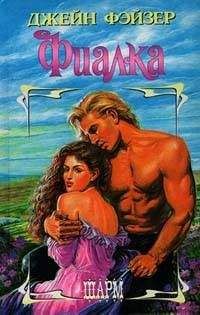грязь непролазная, приятно грело весеннее солнце.
Пети погнал стадо на пастбище. Теперь вместе с посохом он носил и ружье.
Ни разу не стрелял он из винтовки, никогда и не прикасался даже. Пети не хотел брать винтовку, но заставили. Село боялось, что могут угнать скотину. Ротный рассердился, топнул ногой, и Пети, испугавшись, согласился.
А когда молодые парни стали обучать Пети, как обращаться с винтовкой, односельчане давились от смеха. Пети с ужасом прикоснулся к винтовке и тут же отдернул руку, точно ошпаренный. Держа винтовку, как дубину, он каждый день гнал коров на пастбище.
Про себя он считал лишним брать винтовку. Все его знали в горах; сколько раз он полдничал у родника с незнакомыми пастухами. Пети был убежден, что тот, кто знает его, ни за что не выстрелит, не подойдет к стаду.
Зачастую, когда Пети надоедало таскать тяжелую винтовку, он прятал ее под камнем недалеко от деревни, а по дороге домой забирал ее.
Ребятишки потешались над ним:
— Сколько людей поубивал, Пети?
— Где твое войско, Пети?
Пети иногда казалось, что ротный специально дал ему винтовку, чтобы все насмехались над ним. И от этой мысли он обижался, замыкался в себе, норовил забиться в угол хлева, чтобы никто его не видел.
На рассвете, когда Пети умывался у родника, ему сказали, что сегодня он должен рыть траншеи в горах. Стадо в этот день останется в селе.
Пети, смешавшись, забыл утереть лицо папахой, вода стекала по щекам. Хотел было отказаться, но тут же вспомнил, как ротный в сердцах топнул ногой.
И вместе с другими он отправился к склону горы Айю рыть траншеи.
Стоял весенний туманный день. Тихо моросил дождь, влажный воздух был напоен запахом весенней травы и цветов.
Пети спрятал узелок с хлебом под камнем и принялся рыть траншеи в указанном ротным месте. Поодаль рыл траншею другой, чуть в сторонке — третий, и так в весенний туманный день склоны горы Айю вскоре зачернели цепью траншей.
Пети неумело копал землю, и пот, как капельки ртути, стекал с его изрытого оспой лба.
Вдруг тучи рассеялись, выглянуло весеннее солнце, в воздухе резче запахло цветами и травами. Пети сел, прислонившись спиной к камню. Затерявшийся вдали в зелени садов город был подобен оазису.
Со стороны села донеслось мычание коровы.
— Джан, родимая, голодной осталась, — задумчиво произнес он и решил с утра пораньше погнать стадо к склонам горы Айю, где трава такая сочная и вкусная.
Сидя у камня, он смотрел на отдаленные холмы. Озаренное лучами солнца, его утомленное, с медным оттенком лицо было исполнено величия, запавшие глаза излучали бесконечную доброту и просветленную любовь к этой земле, к ее травам и животным, к цветущим горам.
…Из-за холма сзади вдруг раздались редкие выстрелы, Пети поднялся во весь рост, прислушался. И внезапно упал в траншею, упал ничком на влажную землю. Так валится подсохшая трава, когда ее со свистом подсекает коса.
Была ли то шальная пуля, или злое желание затаившегося врага, так никто и не узнал, но когда ротный подошел к траншее, он увидел лежащего лицом вниз Пети. Пуля разнесла ему череп, и рыхлая земля уже впитала его алую кровь.
Похоронили его там же, в углу траншеи.
Никто не плакал над Пети, у села были свои заботы. Только скотина утром мычала в хлеву, тоскуя о зелени гор.
Ночной дождь смыл с травы капли крови…
На склоне горы Айю есть место, где трава гуще и темнее. Под густой травой покоится прах Пети.
Перевод М. Геворкяна
1
Была осень, ясная осень. Воздух был чист и прозрачен, как стекло.
Далекие горы выступали так рельефно, так ясно и отчетливо, что казалось, кто-то вымыл и подмел их склоны.
Была осень с листопадом, с мягким теплом солнца, с холодным ветром. Ветер кучами гнал желтые осенние листья и уносил их далеко.
Деревья шумели от ветра, в огороде шелестели засохшие листья кукурузы, осенним лучам солнца улыбался последний подсолнечник.
В саду перед давильней, на заросшем мхом камне, задумавшись, сидел дядя Дилан, прислушиваясь к шелесту кукурузных листьев.
Осеннее солнце согревало, а тишина ущелья успокаивала. Ветер колебал из стороны в сторону вьющиеся на деревьях виноградные лозы. Неустанно скрипела дверь давильни, — ветер то открывал, то снова закрывал ее.
В тихий осенний день дяде Дилану приятны были и шелест кукурузных листьев, и шепот виноградных лоз, и скрип дверей давильни.
Мысли дяди Дилана были далеко. Они были подобны щепке, несущейся по волнам.
Однажды, много лет тому, назад, когда Дилан еще был молод, заскрипела дверь.
Стоял такой же солнечный день. В корзинах перед давильней были сложены виноградные грозди, а внутри, в давильне, в каменном корыте дядя Дилан давил виноград, и вкусный сок, красный, как кровь, стекал в чаны из каменного корыта.
В саду не было никого, он работал один. Обнажив ноги до колен, выдавливал виноградные грозди, мурлыкая под нос какую-то песенку.
Жарко было в давильне, и капли пота капали в молодое вино. Он был молод в то время, и кровь в жилах текла тоже как молодое вино.
Вдруг дверь давильни тихо заскрипела, вошла Сона, увидела его, хотела вернуться, но дядя Дилан выпрыгнул из корыта и прикрыл дверь.
Сона — невестка священника. Сона, в красной одежде, со звенящими браслетами на руках, попыталась открыть дверь. Сказала:
— Войдут, ведь в саду кто-то есть…
Но Дилан крепко держал ее в своих объятиях.
Быть может, от опьяняющего запаха вина, быть может, от того, что жарко было…
Жарко прошептал на ухо Соне:
— Бессовестная, соскучился, весь горю…
Сказал и, обвив шею рукой, притянул к себе и поцеловал в щеки.
Так приятны были ворсинки на щеке, так приятен был запах и новой красной одежды, так жарко, душно было в давильне…
Сона, извцваясь, как змея, пыталась освободиться из его рук. Умоляла, просила отпустить ее.
Обещала:
— Приду, ночью приду…
Но Дилан не отпускал ее из своих объятий. Не отпустил, пока не изнемог, не насытился…
Когда Сона ушла, дядя Дилан не пошел больше к корыту с виноградом.
Всюду ему чудился запах одежды Соны, чувствовал горячее тело ее…
Давно желанной была ему Сона.