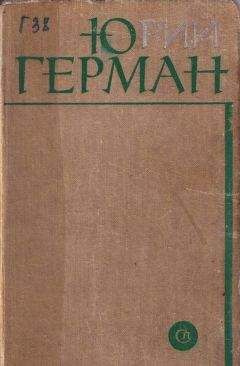- Что ж, поздравляю! - сказал Лапшин. - Спасибо, что позвонили.
- До свидания, - услышал он. - Я звоню с почты, мои три минуты кончились. Большой привет вашей супруге и деткам...
Потом принесли телеграмму из Мурманска, и Лапшин опять вспомнил прошлое - перестрелку на севере, и ему почему-то стало грустно. Потом приехали три парня и девушка в красном берете с жестянкой вроде кокарды. Они привезли Лапшину торт, и парень, у которого под пальто была маечка, сказал длинную фразу, из которой Лапшин понял, что он где-то кого-то спас и при этом что-то предотвратил. Они ушли, а Лапшин так и не понял, кто они и откуда. Торт оставался на письменном столе, и Лапшину было неловко на него глядеть - словно он краденый. Подумав, Иван Михайлович разрезал все это сооружение с ягодами, цветами и вензелями на куски и каждому, кто заходил, протягивал ломоть на листке отрывного календаря. Окошкин съел два куска, потом довольно развязно позвонил куда-то по телефону и попросил Лапшина подтвердить.
- Что подтвердить?
- А вчерашнее! Где я находился, забыли? - испуганно воскликнул Василий. - Иначе знаете, что мне будет? Ни в сказке сказать, ни пером описать...
Тотчас же голос его изменился, словно это говорил не Окошкин, а крем с торта, он попросил весовую и сказал:
- Ларисенок? Это я, ага, я. Передаю трубку. Иван Михайлович вчера правительственную награду отмечал, он сам объяснит...
Злобно глядя на Окошкина, Лапшин повторял за ним:
- Он действительно находился при мне неотлучно, мы отметили и легли спать. Скромно отметили. Присутствовали журналист Ханин, товарищ Окошкин, врач Антропов и я. Еще Патрикеевна...
В трубке щелкнуло, Окошкин спросил:
- Ну, что она? Не поверила?
- Знаешь, Василий! - слегка даже заикнувшись, сказал Лапшин. - Знаешь!
- Знаю, Иван Михайлович, - устало опускаясь в кресло, ответил Окошкин. - Все знаю. Конечно, некрасиво. Но ревнивая, просто жутко. Можно папиросочку у вас взять?
Покурив, он подвинул к себе торт и спросил:
- Разрешите, я еще скушаю? Крем здорово вкусный, просто великолепный. Если бы еще личная жизнь сложилась окончательно. Вы войдите в мое положение, разберитесь по-товарищески...
Но, заметив недобрый блеск в зрачках Лапшина, сделал вид, что заинтересовался газетой, и даже воскликнул:
- Смотрите-ка, Костя наш чего делает?
- Какой он тебе Костя?
- А что особенного? Наши ребята его так между собой всегда называют Коккинаки, Костя! Молодой же парень!
Иван Михайлович не нашелся что ответить и только вздохнул, а Василий прочитал вслух сообщение о перелете самолета "Москва" в США и стал объяснять Лапшину сложности в сооружении тяжелых самолетов.
- Много ты, Васюра, знаешь, но неточно, - сказал Лапшин. - Здорово приблизительно.
Попозже пришел артист с большой челюстью - Захаров, - и, здороваясь с ним, Лапшин глядел на дверь, ему казалось, что сейчас войдет Балашова.
- Я, батюшка, нынче один, - словно поняв его взгляд, сказал Захаров, фертов своих к вам не повел. Не умеют себя вести, пусть и сидят дома...
И он начал длинно говорить про неизвестных Лапшину французских братьев Гонкуров, которые, перед тем как описать смерть, долго ходили по больницам и наблюдали умирающих. Он говорил, а Лапшин слушал и не понимал, всерьез рассказывал Захаров или шутил.
- Так уж я вам надоедать не буду, - сказал артист, - пойду попасусь среди ваших работников, понаблюдаю тихонько, если позволите. А завтра-послезавтра Катюшу прихвачу, очень она к вам просится...
Лапшин проводил Захарова к Побужинскому, с радостью повторил про себя слова насчет Катюши и приказал привести к себе Мирона Дроздова. После Мирона он допрашивал Мамалыгу, потом еще двух дружков, взятых нынешней ночью. К обеду он вычертил схемку - все сошлось на Балаге, не раз судившемся по самым разным делам. Но Балагу трогать было решительно нельзя, тогда бы потерялась последняя ниточка, ведущая к Корнюхе. Отхлебывая простывший чай, он вызвал Бочкова и спросил ровным голосом, стараясь не выдать своего волнения:
- Николай Федорович, ты, по-моему, этой подробностью тоже занимался, сидел Жмакин вместе с Корнюхой?
- Абсолютно точно, сидел.
- Корнюхе известно, что Жмакин сорвался?
- Поскольку Балага Жмакина видел и тот даже его кормил обедом, надо думать, известно. Если, разумеется, Балага с Корнюхой и сейчас связан.
- То-то, что связан... Каким путем, неизвестно, а только связан.
Несколько минут они оба молчали сосредоточенно и хмуро.
- А пойдет Алешка на это? - догадываясь о мыслях Лапшина, спросил Николай Федорович. - Не испугается кодлы?
- Не кодла, а воровской сход! - нравоучительно заметил Лапшин.
- И не сорвался, а совершил побег! - поддел Бочков начальника.
Оба улыбнулись. Лапшин сильно, всем телом потянулся, потом заговорил:
- Корнюха убил Толю. Как умирал Грибков, Алешка видел. Это произвело на него сильнейшее впечатление. Все остальное зависит от нас, Николай Федорович. Если мы с тобой вернем Жмакину правду, то есть веру в справедливость, он - наш, советский парень. Конечно, с вывертами, но ведь за Митрохина грошами не расплатишься. И Хмелянский, и Сдобников, и другие ребята нам немало крови испортили, однако ж сейчас люди. Балагу мы "пасем", хоть и плохо. Если он выведет Жмакина, разумеется по желанию самого Корнюхи, - бандит этот у нас. И дело, как говорится, можно будет полагать законченным. Ты еще учти, что Алешка - парень смелый, очень смелый. Ведь вот про волков-то он своей Клавдии не врал, это не выдумаешь. И когда он сердцем почувствует, что Корнюха похлеще, чем те волки, - полный порядок. Наше дело будет только техническое. Согласен?
- Согласен, - ответил Бочков.
Чай на двоих
В это воскресное утро безразличие и тупость вдруг покинули его. Может быть, от письма Клавдии, которое он жадно читал и перечитывал накануне вечером и где она писала, что отыщет его, "дурака", где бы он ни был, хоть на дне морском, может быть, оттого, что Агамирзян прислал ему тоже писульку о правде и справедливости, может быть, оттого, что новый врач разговаривал с ним не как с больным, а как с совершенно здоровым человеком, - во всяком случае Жмакину захотелось двигаться, захотелось хорошо помыться, переодеться, выйти в сад. Если бы новый, кривоногий, коротенький и толстый, доктор хоть в чем-нибудь нынче отказал Жмакину, он бы, наверное, вернулся в прежнее свое состояние, но доктор Лаптев согласился, что и вымыться хорошо, и переодеться не мешает, и по парку побродить тем более. Самое же главное заключалось в том, что Лаптев, вопреки всем правилам, заперся со Жмакиным в своей маленькой ординаторской и "втихаря" выкурил с ним по папиросе.
- Знаю, что безобразие, а не могу бросить! - сказал Лаптев, отряхивая пепел с папиросы в раковину. - Кстати, вы кто по специальности?
Хотя вопрос был задан вовсе не "кстати", Жмакин солидно ответил:
- Вор.
- Нервное дело?
- Работенка, конечно, пыльная.
- Хорошо бы переквалифицироваться, - посоветовал доктор. - С вашими нервами долго не протянешь.
- Мы в тюрьме отдыхаем, - сказал Жмакин. - Наше нервное дело имеет отпуск.
- И это верно...
Часа через два они встретились в парке. Лаптев уютно грелся на весеннем, уже припекающем солнышке, Жмакин подсел к нему на широкую, со спинкой, садовую скамью. Где-то высоко в ветвях еще голых старых берез суетливо орали вороны. За высокой кирпичной стеной скрежетали на закруглении трамваи, перекликались разноголосые автомобильные гудки.
- Стена-то у вас ничего себе, солидная! - сказал Жмакин. - Но уйти все-таки не так уж трудно.
- Для здорового легко, для больного не слишком.
- А я вот, например, мог бы уйти? - дипломатично осведомился Жмакин.
Доктор не задумываясь ответил:
- Разумеется. Как и всякий здоровый человек.
- Так зачем же вы меня здесь держите?
- Во всяком случае вы тут не как душевнобольной...
- А как кто?
- Просто нервы у вас издерганы.
- От нервов санатории бывают, а не сумасшедшие дома.
- Здесь не сумасшедший дом, кстати, а клиника для душевнобольных, ответил Лаптев. - Что же касается до санатория, то я думаю, что мы вас туда и направим в ближайшее время.
- Я, между прочим, не член профсоюза, - усмехнулся Жмакин. - Так что через что мне путевку выписывать - убей бог, не знаю...
Доктор промолчал, послушал, как орут вороны. К ним осторожно, кланяясь и улыбаясь, волоча ноги и даже приседая, подошел седенький музыкант Подсоскин, автор всего написанного композитором Чайковским.
- Ну что, молодые люди? - спросил он. - Дышим?
- Дышим, - хмуро сказал доктор.
- Разрешите к вам подсесть?
Жмакин молча подвинулся.
- Дышите, дышите, - сказал Подсоскин. - Вода и камень точит. Я вам всем горлышки перегрызу, в могиле не подышите. Я своей правды добьюсь. Шестьсот заявлений, семьсот заявлений, мир завалю заявлениями, а докажу. Среди невежества и неверия я один провозвестник. Тысяча заявлений сработают. Один правый, другой левый, третий связан с дефензивой, четвертый с сигуранцей, пятый подкуплен лично Чемберленом, и мне возвратят мое. Я - Чайковский Петр Ильич! И я прорвусь. Ву компренэ?