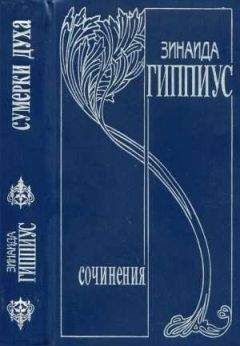Приходили тоже новички, но эти лезли ко всем профессорам и говорили только о себе.
Сегодняшние студенты были не новички, и Бог их знает, зачем они пришли и сидели. Они часто ходили вместе, хотя были, по-видимому, разномышленники. Один – Лишин – высокий, сутулый блондин с некрасивым, болезненно-скромным лицом; другой – Завалишин, – черный, толстогубый, с изумленными, но спокойными при этом глазами.
Многие замечали, что, несмотря на полное их внешнее различие, по чертам и краскам, они были странно похожи друг на друга, мучительным сходством, которое иногда случается между братом и сестрой, матерью и сыном, причем один может быть уродом, а другая красавицей.
Маленькая, узенькая столовая в скромной квартире Дмитрия Васильевича, на девятой линии Васильевского острова, казалась неуютной всегда, а теперь почти страшной; над столом была зажжена лампа, а в окно, не завешанное шторой, лился полуденный мрак, особенный, серый, как паутина, старающийся быть светом. За окном стоял не воздух, а скользкий, плотный туман, мокрый дым, который не мог сдвинуться. Он невидными нитями прополз и в комнату, которая вся замглилась; лампа горела без лучей красно-желтым пятном. Лица студентов и Дмитрия Васильевича, освещенные с одной стороны этим желто-рудым отблеском, с другой, от света небесного, казались серыми, как у покойников.
Сосредоточенный, худой мальчик, лет четырнадцати, лакей Ваня, убрал тарелки, оставив только чашки с кофе. Этот мальчик был привезен года два тому назад Шадровым из деревни и служил ему верно и молчаливо.
Хозяйством заведовала сиделка, экономка, нянька больной матери Шадрова – Марья Павловна. Она жила «на той половине», то есть в другой такой же квартире через площадку, где жила больная. Там же готовилось и кушанье. В квартире Дмитрия Васильевича не было никого, кроме Вани.
– Нет, – сказал Лишин, высокий блондин, своим тонким, плачущим голосом. – Вы, Дмитрий Васильевич, не вполне улавливаете суть того, о чем я говорю. Я, напротив, человек очень деятельный. Я не могу жить без деятельности, но меня преследует страх смерти.
– Чего же вы боитесь?
– Вот именно смерти. Благодаря моему стремлению к деятельности, к жизни, полной трудностей и борьбы с препятствиями, стремлению во что бы то ни стало достичь намеченной цели, я не могу не бояться смерти, – конца всего. И этот ужас у меня растет с годами.
– Вы ее как конца боитесь, или боитесь страданий перед ее наступлением?
– Конечно, и страданий тоже, но главное – конца. Глухая, черная дыра – и ничего. Знаете, вот иногда вечером, в своей комнате, один… Да что иногда! Всегда! Сидишь один, тихо вокруг тебя, как в могиле, – и чувствуешь в себе свой череп, неизбежно знаешь, что умрешь, то есть что будет – ничего. Просто не придумаешь, куда деваться.
– Но если вы наверно знаете, что будет «ничего», что ни страданий, ни сознанья, ни жалости, ни даже этого страха не будет – чего же бояться?
– Да, я наверно знаю. Но я именно потому-то и боюсь, что наверно знаю. Я этого самого то и не хочу.
Дмитрий Васильевич посмотрел на него и улыбнулся.
– А я вот думаю, что вы не наверно знаете. Помните, мы с вами только что говорили о явлениях? Значит (будем говорить с самого начала) вы знаете совершенно твердо, что явление – только в себе и для себя, и за ним ничего нет и не может быть?
– А как же иначе? Я знаю явление, а больше ничего не знаю. И какие же есть основания предполагать, что за ним есть еще что-то?
– Ну, вот, вы любите картины, любите науку… Когда вы смотрите на картину, на хорошую, она…
– Она мне говорит о явлении, которое я и знаю. Мне интересно угадывать, что думал художник, что чувствовал, как передавал…
– Значит, по-вашему, жизнь возвращается в жизнь, и все в этом круге и для этого круга? Постойте, послушайте…
Дмитрий Васильевич неожиданно встал, оживившись. Он говорил, стараясь выражаться не просто (он заметил, что студенты лучше понимают не простые слова) о самых началах не позитивной философии, о разделении и соединении сущности и явления, о жизненной цепи, начальные и конечные звенья которой скрыты за рождением и смертью, о явной тайне мира. Ему было стыдно говорить о таких слишком известных вещах – и он вдруг остановился.
Лишин уныло сосал смоченный в кофе сахар.
– Нет, что ж? – сказал он. – Вот религия, – я еще понимаю. Если б та вера возвратилась, что в детстве… Вот тогда бы не страшно стало смерти. Самая простая, примитивная, детская… потому что ведь другой никакой нет. Но она не может вернуться. При теперешнем положении науки, при развитии человеческого сознания… Мы переросли всякую религию и… не достигли счастья.
– Бог знает, что вы говорите, Лишин! – произнес Дмитрий Васильевич даже с некоторым изумлением. Он хотел было сказать, что люди не переросли религии, а еще не доросли до нее, что она начинается только за наукой, за сознанием, и не сказал ничего. Ему было жаль, что Лишин пришел и стал говорить с ним, что он ближе взглянул на одного из своей толпы слушателей. Когда он читал им о фактах и о событиях, они молчали, и он с кафедры видел только головы, одинаково круглые и покрытые волосами.
– Действительно, ты говоришь жалкие вещи, – отозвался вдруг молчавший все время Завалишин. Голос у него, несмотря на толстые губы и внушительный вид, оказался такой же тонкий и неуверенный, как у Лишина, только был как-то дерзче. – К чему тебе религия, да еще какая-то ребячья, вера в рай и ад, что ли? Экий ты слабняк! Деятельность, польза, благо, высшие и не высшие стремления ко всеобщему счастью и в конце концов – «смерти боюсь»! Все вы такие теперь, последние могикане, последние нигилисты. Ослабли. Те хоть за свое до конца держались, а вы сами не знаете, где путаетесь. В тех своя гармония была, а в вас только кричащие диссонансы. Ты полюби вот эти самые явления, игран ими, создавай из них легкую красоту и наслаждайся ее. Любил минуту, себя люби за свои пять чувств и за идущее от них наслаждение. Стихи, звуки, краски неба, вот этот туман… В тумане – глубочайшее наслаждение. Смерть – что ж? Это так красиво протянуться на чистых простынях… и совершенно ее не заметить, смерти. Все для меня! И природа для меня, и явления для меня, и смерть тоже. Кому там служить? Для чьей пользы стараться? Никого и нет, кроме тебя. Ты себе послужи. Ты…
– Ну, знаю! – уныло протянул Лишин. – У тебя все одно: изощрись, да изощрись, да вокруг себя обернись, да думай, как бы получше насладиться, вдыхай ароматы, где ничем не пахнет, слушай музыку, где тишина… Не могу я нарочно на такие фокусы подниматься! Куда же я свою любовь, да, любовь к людям дену? А веру в добро, в общественные интересы, в подвиг служения другим? Куда? Ведь это же во мне есть!
Последние слова он проговорил почти плачущим голосом.
– Зачем же ты говоришь, что искусство любишь? – неожиданно взвизгнул Завалишин. – При чем оно? У тебя благородные цели, ты хочешь служить человечеству – зачем же ты притворяешься, что любишь искусство, которое бесцельно, потому что оно – игра, оно само в себе и для себя?.. Нет, ты будь последователен, иначе ты – слабняк, ты права не имеешь жить, таких, как ты, убивать надо… Да и не надо, – сами исчезнут, погибнут.
– Тебе хорошо, Завалишин. Ты, может, и не притворяешься, ты – эстет… Ты вон и стихи пишешь, и недурные, – я согласен. А у меня нет этих способностей, да и желания другие… Настолько другие, что ты вон меня убить хочешь, а мне кажется иногда, что тебя следует убить, – до такой степени ты мне возмутителен делаешься со своими… беззастенчивыми теориями, где следа нет того, что человечество привыкло считать высоким и чистым…
Они оба, Лишин и Завалишин, смотрели теперь в глаза друг другу с острой ненавистью. И одинаковое чувство сделало их в эту минуту совсем одинаковыми, сходство лиц было так странно, что даже испуганный ссорой Дмитрий Васильевич невольно улыбнулся. Ему нисколько не хотелось спорить ни с тем, ни с другим. Только бы они не подрались здесь! Но ссора так же быстро потухла, как началась. Шадров знал, что Завалишин писал недурные, хотя намеренно-манерные, подражательные стихи. Но, конечно, он не знал, что эти стихи тотчас же прочитывались Лишину, который спорил, плакал, но почти все одобрял, а затем рассказывал Завали-шину о своем страхе смерти. И они до ужаса ссорились, крича как будто каждый свое, а в сущности одно и то же, – и дружба их росла да крепла. Странное случайное сходство лиц точно связывало их помимо воли.
Они после вспышки немедленно перестали спорить и даже не обратились ни с каким вопросом к Дмитрию Васильевичу, хоть чувствовали, что он ни с тем, ни с другим не согласен и имеет свои мысли.
– Мы нынче вечером еще, вероятно, встретимся с вами, Дмитрий Васильевич, – сказал Лишин застенчиво, после минутного молчания. – Вот Завалишин мне передал приглашение… Я очень рад познакомиться… К… Нине Авдеевне… У нее соберутся… и вы…