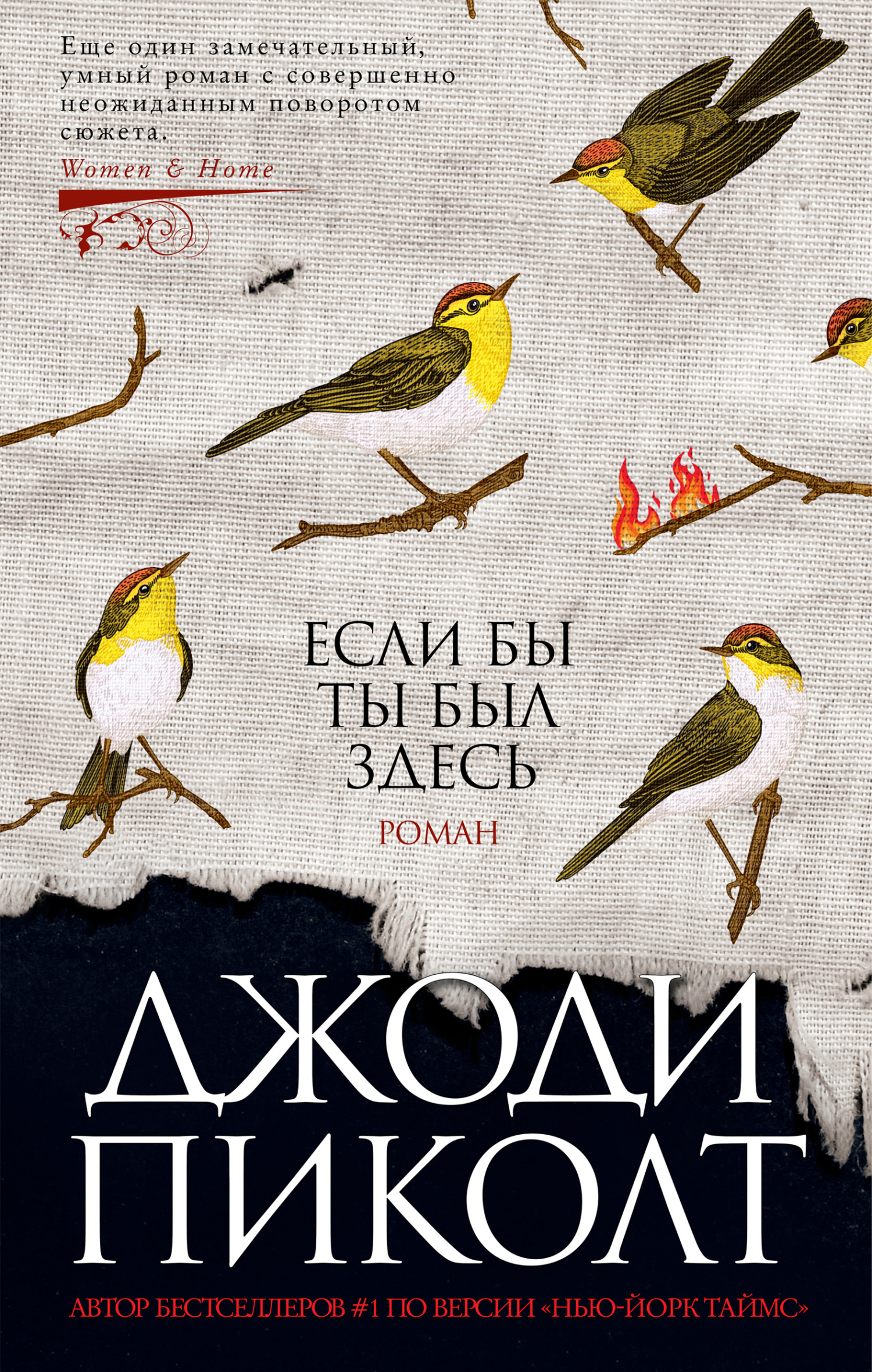нет.
Он медленно наклоняется вперед, ему тесно в этой крошечной загородке, наконец он опускает лоб на гладкую деревянную поверхность барьера, ограждающего место свидетеля.
Судья Десальво объявляет десятиминутный перерыв, прежде чем Сара Фицджеральд начнет перекрестный допрос, чтобы свидетели могли немного прийти в себя. Мы с Анной спускаемся вниз, к торговым автоматам, где можно потратить доллар на жидкий чай и еще более жидкий суп. Моя клиентка сидит, поставив пятки на перекладину между ножками стула, а когда я подаю ей чашку горячего шоколада, ставит ее на стол.
— Я никогда не видела, чтобы мой папа плакал, — говорит Анна. — Мама, она вечно льет слезы над Кейт. Но папа… Если он и расклеивался, то делал это так, чтобы мы не видели.
— Анна…
— Вы считаете, это я его довела? — спрашивает она, поворачиваясь ко мне. — Вы считаете, я не должна была просить, чтобы он сегодня пришел сюда?
— Судья все равно вызвал бы его давать показания, так что ты тут ни при чем. — Я качаю головой. — Анна, ты тоже должна сделать это.
Она испуганно глядит на меня:
— Что сделать?
— Дать показания.
Она моргает:
— Вы шутите?
— Я считал, что судья и так примет решение в твою пользу, если увидит, что отец готов поддержать твой выбор. Но к несчастью, только что выяснилось обратное. И я понятия не имею, что скажет Джулия. Но даже если она встанет на твою сторону, судья Десальво захочет сам убедиться, что ты достаточно зрелая личность и способна принимать самостоятельные решения независимо от воли родителей.
— Вы имеете в виду, что я должна выйти туда? Как свидетель?
Я всегда знал, что рано или поздно Анне придется занять место свидетеля. Когда слушаются дела об освобождении несовершеннолетних от опеки, судья, как правило, выражает желание услышать аргументы самого несовершеннолетнего, и это вполне естественно. Анна всем своим видом показывает, что боится давать показания, но я уверен: подсознательно она хочет именно этого. Зачем иначе было затевать всю эту канитель с судебным процессом, если не ради того, чтобы в конце концов высказать открыто, что у тебя на уме?
— Вчера вы сказали, что мне не придется давать показания, — взволнованно говорит Анна.
— Я ошибся.
— Я наняла вас, чтобы вы сказали всем, чего я хочу.
— Это так не работает. Ты начала судебный процесс, хотела изменить свою жизнь, не быть больше тем, во что тебя превращали родители в течение тринадцати лет. А это означает, что ты должна откинуть завесу и показать нам, кто ты такая.
— Половина взрослых на этой планете не знают, кто они, но каждый день принимают решения за самих себя, — возражает Анна.
— Им не тринадцать лет. Слушай, — я перехожу, как мне кажется, к решающему аргументу, — я знаю, в прошлом, когда ты вставала и высказывала свое мнение, это ни к чему не приводило. Но я обещаю: на этот раз, когда ты заговоришь, тебя будут слушать все.
Странно, но это оказывает противоположный ожидаемому эффект.
— Я ни за что туда не пойду, — заявляет Анна.
— Послушай меня, быть свидетелем — это не такое уж сложное дело…
— Это сложное дело, Кэмпбелл. Самое сложное. И я его делать не буду.
— Если ты не дашь показания, мы проиграем, — объясняю я.
— Так найдите другой способ победить. Вы же адвокат.
Эту наживку я не заглочу. Я постукиваю пальцами по столу, чтобы не выходить из себя.
— Ты не хочешь объяснить мне, почему так решительно настроена против дачи показаний?
Она закатывает глаза:
— Нет.
— Нет, не хочешь этого делать? Или нет, не станешь объяснять?
— Есть вещи, о которых мне неприятно говорить. — Лицо ее застывает. — Я думала, из всех людей именно вы способны это понять.
Она знает, на какие кнопки жать.
— Переспи с этим, — предлагаю я.
— Своего решения я не изменю.
Я встаю и бросаю в урну полную чашку кофе.
— Ну хорошо, тогда не жди, что я смогу изменить твою жизнь.
Настоящее время
С течением времени происходит занятная вещь — обызвествление характера. Знаете, если свет особым образом упадет на лицо Брайана, я и сейчас увижу голубоватый оттенок его глаз, который всегда наводил меня на мысль об островах и океане, где мне уже доводилось плавать. Под мягким изгибом улыбки у него есть ямочка на подбородке — первая черта, которую я стала искать в лицах своих новорожденных детей. В ней отражена решимость Брайана, его спокойная уверенность и внутренний мир с собой; я всегда хотела, чтобы последнее свойство передалось от него мне. Вот главное, из-за чего я влюбилась в своего мужа. Хотя сейчас, случается, я не узнаю его, но, может, это не так уж плохо. Перемены не всегда ведут к худшему; оболочку, формирующуюся вокруг песчинки, кто-то называет аномалией, а кто-то — жемчужиной.
Взгляд Брайана перескакивает с щиплющей заусенец на пальце Анны на меня — взгляд испуганной приближением ястреба мыши. Как больно это видеть! Неужели он и правда так ко мне относится?
А все остальные?
Если бы нас не разделял сейчас зал суда, я подошла бы к нему и сказала: «Слушай, я не думала, что наша жизнь пойдет вот так; и, может быть, нам не выбраться из этого тупика, но на свете нет больше никого, с кем я хотела бы блуждать в потемках. Слушай, возможно, я была не права».
— Миссис Фицджеральд, — обращается ко мне судья Десальво, — у вас есть вопросы к свидетелю?
«Неплохое определение для супруга, — думаю про себя. — Для чего еще нужен муж или жена, как не для того, чтобы свидетельствовать в суде о проступках партнера?»
Я медленно встаю со своего места:
— Привет, Брайан. — Голос мой звучит далеко не так уверенно, как я рассчитывала.
— Сара… — отвечает он.
Я не знаю, что сказать после этого обмена любезностями.
Меня накрывает волна воспоминаний. Мы хотели куда-нибудь съездить, но не могли выбрать место, поэтому просто сели в машину и поехали, раз в полчаса кто-нибудь из детей выбирал, куда свернуть. Мы оказались в Сил-Коуве, штат Мэн, и остановились, потому что направление, указанное Джессом, привело бы нас к нырку в Атлантику. Мы сняли крошечный домик без отопления, без электричества, а трое наших детей боялись темноты.
Я не замечаю, что говорю все это вслух, пока Брайан не подает голос:
— Помню, мы поставили на пол и зажгли столько свечей, что я был уверен: пожара не избежать. Дождь лил пять дней.
— А на шестой, когда погода улучшилась, на улице появилось столько мошкары, что мы не могли выйти.
— А потом