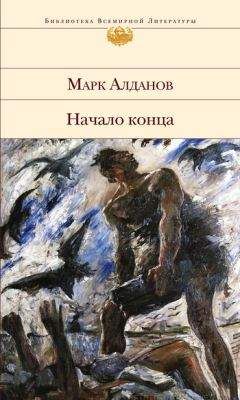Пишущая машинка стояла на комоде. Сбоку она показалась ему похожей в миниатюре на броненосец. «У Франко есть броненосцы, это надо будет отметить в докладе… Я писал в книге, что пока еще нельзя предсказать результат борьбы морского флота с воздушным: нет данных… А мне, собственно, все равно», – бормотал Константин Александрович, не имевший вообще привычки говорить с собой вслух. Лента на машине сильно истрепалась, кое-где разорвалась на полоски, но у него была запасная. Он стал ее вставлять. «Совершенно все равно, – бормотал он, – что Франко, что Миаха… Если эти, здешние, немного чище и привлекательней, то разве потому, что они пачкают только свободу, которую одни ленивые не пачкали и не компрометировали – и черт с ней! Пусть ее и компрометируют, и пачкают! А те, фашисты, свои гнусности прикрывают не свободой, а другим, и это гнуснее, потому что тут истинное кощунство… Настоящий верующий человек это иначе как кощунством и не может назвать!..»
Вставить кончик ленты под стерженек валика Тамарину удалось лишь с трудом, хотя он привык к этой операции и даже любил ее; несмотря на свою бережливость он ленты в Москве и в Париже менял очень часто – ему нравилась черная четкая печать. Пальцы у него испачкались от свежей краски. Воды в кувшине почти не оставалось, он вылил остаток в миску, но только размазал краску на руках, и на полотенце остались черные пятна – «просто неловко перед этой Микаэлой… Нет, так нельзя писать! Уж не выйти ли на улицу, а?».
Константин Александрович очень обрадовался этой мысли и поспешно стал одеваться. «Пропуск есть, могу ходить где хочу, смотреть что хочу. Дверь там внизу была на задвижке, без ключа… Вдруг еще бои увижу! Да, ведь ночью бои!» – еще больше обрадовался он. Усталость с него сняло как рукой. Но соображал он все хуже. «Согрелся от вина, отличное вино… Да, открытку опустить!» Открытка Наде по-прежнему лежала в кармане шинели. Надев шинель, Тамарин на цыпочках вышел из комнаты. Пишущая машинка все стучала. «Уж не галлюцинация ли это? Нет, никогда в жизни никаких галлюцинаций у меня не было. Во всяком случае, это была бы очень странная галлюцинация».
Внизу, в холле, на диване полудремал вооруженный сторож. Как раз в ту минуту, когда Тамарин спускался по лестнице, у дверей дома остановился автомобиль. В холл вошел высокого роста седой человек в темном, поношенном штатском пальто. «Кажется, это наш! Чуть ли я не видел его в Москве, в какой-то комиссии? Латыш», – подумал с очень неприятным чувством Константин Александрович. Сторож вскочил, на лице его изобразился ужас. Вытянулся с испуганным видом и часовой у двери холла. Штатский человек прошел в дверь, сделав вид, будто не замечает Тамарина.
Ночь была странная. Быть может, в последние годы жизни переселившегося в Испанию грека, самого непонятного из великих художников, в те годы, когда на него надвинулось умопомешательство, он по ночам здесь видел это фигурное пятнистое небо. Резкий ветер гнал облака, красноватая, огромная луна показывалась лишь на мгновение. Тамарин взглянул на небо, изумился и простоял с минуту неподвижно. Ему пришла было мысль, что он в бреду, что надо тотчас вернуться и лечь в постель. «Какой вздор!.. Странно, все очень странно, – сказал он себе и, застегнув шинель, быстро пошел налево. – Испанисто, очень испанисто! Никогда такой ночи не видел». Было очень холодно, улицы были пусты, фонари встречались редко. У одного из них ему бросилась в глаза какая-то высокая тумба. Он не сразу догадался, что это почтовый ящик, но догадался. Константин Александрович опустил открытку – «разумеется, почтовый ящик: не может быть ни малейших сомнений» – и почувствовал большое облегчение. Его и в обычном состоянии немного беспокоили неотправленные письма. Теперь же он вздохнул так радостно, точно найти почтовый ящик в большом городе было необыкновенной удачей. «Значит, след не затеряется!.. Да, торжество зла, и я во всем участвую, дурак на службе у злодеев. Впрочем, другие не лучше их, не умнее меня…»
Не очень далеко раздался пушечный выстрел, за ним другой, третий. Тамарин обрадовался чрезвычайно. «Вот, вот, туда и надо идти!» – сказал себе он и ускорил шаги. Все чаще попадались разрушенные дома. «Странно еще, что их так мало! Если бы немцы бабахнули по-настоящему, то ничего бы от города не осталось». Слева показалась высокая колонна с шаром на верхушке. «Памятник? Некому было ставить и не за что. не велика беда, если и снесут. А потом вы снесите их памятники, и тоже будет отлично», – кому-то посоветовал он. Константин Александрович еще больше обьрадовался, увидев слабо освещенную кофейню с полуотворенной дверью. Он вошел, что-то пробормотал и тыкнул пальцем в первую попавшуюся бутылку. Свет шел от жаровни, на которой жарилась рыба. Старик-кабатчик налил посетителю рюмку, не обратив ни малейшего внимания на его шинель. «Может, он так же не обратил бы внимания, если б к нему зашел Гитлер в германском мундире, – подумал Тамарин, – это и есть мудрец!» Он проглотил одну рюмку, потребовал другую, расплатился. Снова загремели выстрелы, послышалось трещанье пулеметов. «Университетский городок? – спросил с радостью Константин Александрович, вспомнив приблизительно, как по-испански называл это место телохранитель. Старик равнодушно кивнул головой и передвинул блюдо на жаровне. Тамарин только теперь почувствовал сильный неприятный запах рыбы и с отвращением больного человека выбежал из кабака.
И точно жизнь хотела удивить его в последний раз, – луна вышла из-под туч, осветив красноватым светом гибнущий город. Константин Александрович ахнул. «Феерично, феерично! – бормотал он. – Кажется, так хорошо говорить: «феерично»? Если угодно, можно разобрать вывески. Не при луне, так при фонаре… Здесь и фонарей как будто больше. «Pelluqueria» – парикмахерская! – обрадовался он. – «Confiteria», «Camiseria»[207] – все понимаю! «Carpinteria»[208]. Что такое «Carpinteria»? «Asegurado da incendios» – «застраховано от пожара». На каждом доме «застраховано от пожара…» Вот тебе и «asegurado». Россия тоже была «asegurada de incendious». И мы все».
На углу часовой сделал было нерешительно движение в направлении к нему, но, разглядев форму, отдал честь и не остановил его. Тамарин вышел на большую площадь. Везде были залитые лунным светом развалины. Справа горело большое здание. Константин Александрович засмеялся. «Вот ведь и там, у Веласкеса, свет от огня кузницы. Кунштюк![209] Здесь жизнь устроила кунштюк!.. Cine «Las Flores»[210]. Да оно застраховано! Оно застраховано!»
Впереди вниз шла узкая дорога, от которой кривые тропинки поднимались по другую сторону в гору. Только теперь Тамарин заметил, что на невысокой горе стоят большие несимметричные здания. Он догадался, что это и есть Университетский городок, и, быстро перейдя дорогу, стал подниматься по тропинке. Над его головой разорвался снаряд. «Кажется, я попал к штурму?» – подумал он. К зданию бежали люди с винтовками наперевес. «Эх, дурачье! Как идут! Ведь их сметут пулеметным огнем!..»
Впереди нападавших человек в куртке, с необыкновенно четкими, как в кинематографе, движениями, по-видимому, в отличие от других, знал толк в такой войне. Пробежав шагов двадцать, он оглянулся, что-то закричал и припал к земле. Не все сделали то же самое. В ту же секунду затрещали пулеметы. Выждав с минуту, человек в куртке, изогнувшись, бросился зигзагом вперед, откинув далеко назад правую руку с гранатой. Некоторые из бежавших за ним людей повалились. Тамарин ахнул и побежал за ними, на бегу выхватывая саблю. «Ребята!.. Todos para uno!.. Lenin dos dos!» – закричал он не своим голосом. Раздался сильный взрыв. Тамарин метнулся в сторону, выронил саблю, поднял обе руки и упал. Раскаты взрыва, затихая, слились с пулеметным огнем.
В день исчезновения Вислиценуса Кангаров вернулся в санаторий в девятом часу, нарочно опоздал, чтобы ни в коем случае не встретиться с гостем. Настроение у него было очень дурное. Он думал, что надо выдержать характер и не разговаривать с Надей по крайней мере два дня. Не то чтобы совсем ничего не говорить: отрывисто сказать: «Доброе утро», или «Денег не нужно?», или «К обеду уже звонили?» – и это, конечно, всегда можно и ни к чему не обязывает, но разговаривать не следует. «Пусть знает, что я действительно сердит и что она поступила безобразно, пригласив этого хама! Разумеется, я ее не ревную, было бы в высшей степени глупо ревновать ее вообще, а к этому старику в особенности. Я отлично знаю, что она его не любит, пригласила по глупости да еще потому, что хотела показать свою независимость: я-де свободна, я-де могу принимать кого хочу!» (Как многие люди еврейского происхождения, Кангаров особенно любил частицы «де», «мол» и другие слова подобного рода.) «Теперь я и в самом деле еще ничего не могу ни приказывать ей, ни запрещать, – думал он с нежным замиранием сердца, – но она могла бы понять, что status quo продлится недолго: наши отношения понемногу выясняются».