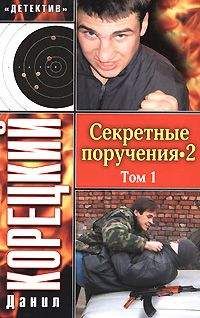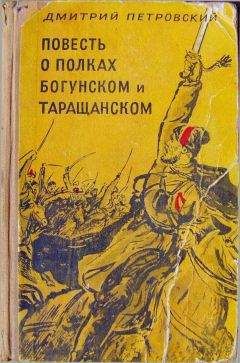будке, железная решетка с шипами наверху, вертушка для пропуска, мой «БМВ», как занесенный снегом броневик, скалился в сторону стоявших радиатором. Он смотрит на них, он говорит: у нас все в порядке, мы все еще могущественное государство. Мы все еще решаем, кого хотим видеть, а кого нет. Мы – немцы, великая нация поэтов, мыслителей и инженеров.
Но они все равно сюда проникают, получают свои бумаги, едут – кто за «социалом», кто гонит туда машины и продает китайскую электронику доверчивым пенсионерам, а кто, как та русская, – прямиком в подвал. Страна мертва, никакой инженерии и мысли там нет, а немец сегодняшнего дня говорит с легким то ли славянским, то ли турецким акцентом и немного путается в употреблении артиклей и окончаний.
А консульство стоит за оградой как последний рубеж, крепость, цитадель – охраняющая нас от них, их – от нас.
Я быстро зашел внутрь, двинулся к окошку – тому, где сидела Сабина.
– Та девушка, сезонная, не забрала еще анкету?
– Нет, – ответила Сабина и указала глазами в зал – высокая блондинка ждала уже внутри.
– Дай сюда бумаги! – попросил я.
Она передала бумаги через лоток, я достал из кармана ручку и быстро черкнул на полях «отказать».
В кабинете меня ждала Алина. Бумаги она, кажется, принесла давно и просто ждала, когда я приду.
– Господин Варсемиак, а кто это был? – спросила она, опять сверкнув глазами.
– Карстен, – выдохнул я, усаживаясь за стол, – сын немецкого миллионера.
Алина застыла на месте.
– Вы шутите! – Она уставилась на меня не моргая, будто я прямо сейчас могу решить ее судьбу. – Совсем не похож…
– Да нет, Алина, очень похож. Только ты не беспокойся – он голубой.
Алина вся поникла и пошла к выходу. Я взял со стола бумажку – ручка, лежавшая сверху, скатилась на пол. Алина прикрыла дверь и опустилась на колени. Но я бросился поднимать ее сам – на четвереньках, на полу, мы столкнулись лбами.
Меня зовут Людвиг Вебер, я семнадцать лет держал девушку в подвале. Все это время я работал, принимал приглашения на приемы, обедал с вами, жал ваши руки, выслушивал признания в ваших маленьких грешках. Все это время я был тем, кем вы меня назвали потом – зверем и извергом. Вы так окрестили меня именно тогда, когда я повез ее к врачу, когда я пытался спасти ее, зная, что сам обречен.
Людвиг Вебер, заключенный номер 67844 тюрьмы Штутгарт-Штаммхайм
Он следит за мной, этот парень, я чувствую. Что-то есть в его взгляде такое, что говорит о чем-то большем, чем любопытство. Это даже больше, чем ненависть рядового заключенного к ВИП-заключенному, каким являюсь я. Мне страшно признать – но это взгляд, за которым стоит что-то личное.
Моя камера – одиночка, я почти не вижу других арестантов. Но когда меня ведут на прогулку, мне приходится идти через общий коридор – и я каждый раз встречаю его глаза. Он сидит, низкорослый и широкоплечий, возле решетки, сидит неподвижно, но смотрит так, как, должно быть, смотрят волки перед прыжком. Впрочем, эти секунды, в которые я прохожу мимо, – только секунды, в остальном мое заключение поразительно однообразно.
Меня, как гражданина Германии, депортировали спецтранспортом, хотя подозреваю, им просто показалось, что швейцарские тюрьмы для меня недостаточно суровы. Мысль о том, что, какой бы я компанией ни полетел, ее владельцы, мои бывшие коллеги, узнают об этом, мелькнула и угасла – какое мне до них дело?
В серой дымке и тумане самолет грубо, с опережением на правую опору, тронул одетую в бетон землю Штутгарта – мой последний полет закончился здесь. Здесь, как и везде, меня встречала машина, а то, что сиденья в ней были не так удобны и ехать пришлось с мучительно сведенными за спиной руками – это детали, с высоты прожитых лет упоминания недостойные. Так я оказался еще одним легендарным заключенным легендарной тюрьмы, где до меня сидели волосатые друзья Главного Немецкого Режиссера времен моей молодости, убившие капитана Шуманна.
Подъезжая к бетонному монстру, затушеванному полосой мелкой мороси, одетому в колючую проволоку, я в очередной раз подумал, что зажился на этом свете непристойно долго – и окружающий мир уже просто выталкивает меня. Подумать только – друзья «волосатых», сидевших в каменных мешках этой тюрьмы, теперь управляют страной – или думают, что управляют, – а я, желавший всего-навсего иметь дом и семью, оказался здесь.
Знаете ли вы, как пахнет тюремная решетка? Она помнит прикосновения рук и пахнет свинцом и потом, отчаянием и страхом. Одиночеством. Человек остается один, когда умирает, он умирает всегда один – еще одна банальность, но что поделаешь, если это правда. Все, что надо человеку, – клочок земли, метр на два, где его похоронят. Не помню, кто сказал и так ли точно сказал, – у меня здесь, в камере, нет книг, чтобы проверить. Но по сути так – вот они, мои десять квадратных метров тюремной камеры – немногим больше, но здесь я живу, здесь и буду умирать.
Тот парень не дает мне покоя. Мне кажется, что я где-то его видел. Когда пытаюсь припомнить где, почему-то вспоминаю Лондон, будто я случайно встретил его там. А еще в памяти всплывают переговоры у этого скота Фельдермана насчет его колл-центра – будто этот парень тоже присутствовал за кадром, на периферии происходящего. И самое невероятное – мне кажется, я видел его на приеме в честь первого полета моего «Дугласа», в аэропорту Темпельхоф, где мы в первый раз танцевали с моей первой женой, хотя этого уж точно не может быть. И еще, кажется, он мне снился.
Когда тебя ведут по лестнице, откуда видны другие камеры, тюрьма представляется трюмом огромного корабля или скелетом невиданного зверя, при вечернем освещении – внутренностями троянского коня. А люди, разместившиеся в камерах, занимающиеся своими ежедневными делами, напоминают жителей многоквартирного дома где-нибудь в Азии, и многим, похоже, и правда все равно, где доживать свои дни. Телевизор и интернет есть везде, а здесь еще и не приходится думать о завтрашнем дне. Такими мыслями удается занять себя, пока иду мимо решетки, за которой сидит тот парень, – и все равно я каждый раз вздрагиваю, когда ловлю его взгляд.
Нас запирают здесь, чтобы было время подумать и осознать свою вину. И я думаю, вспоминаю отца и мать, вспоминаю ее – но эти мысли тупо гудят в голове, так же, как гудят лампы в коридорах, и