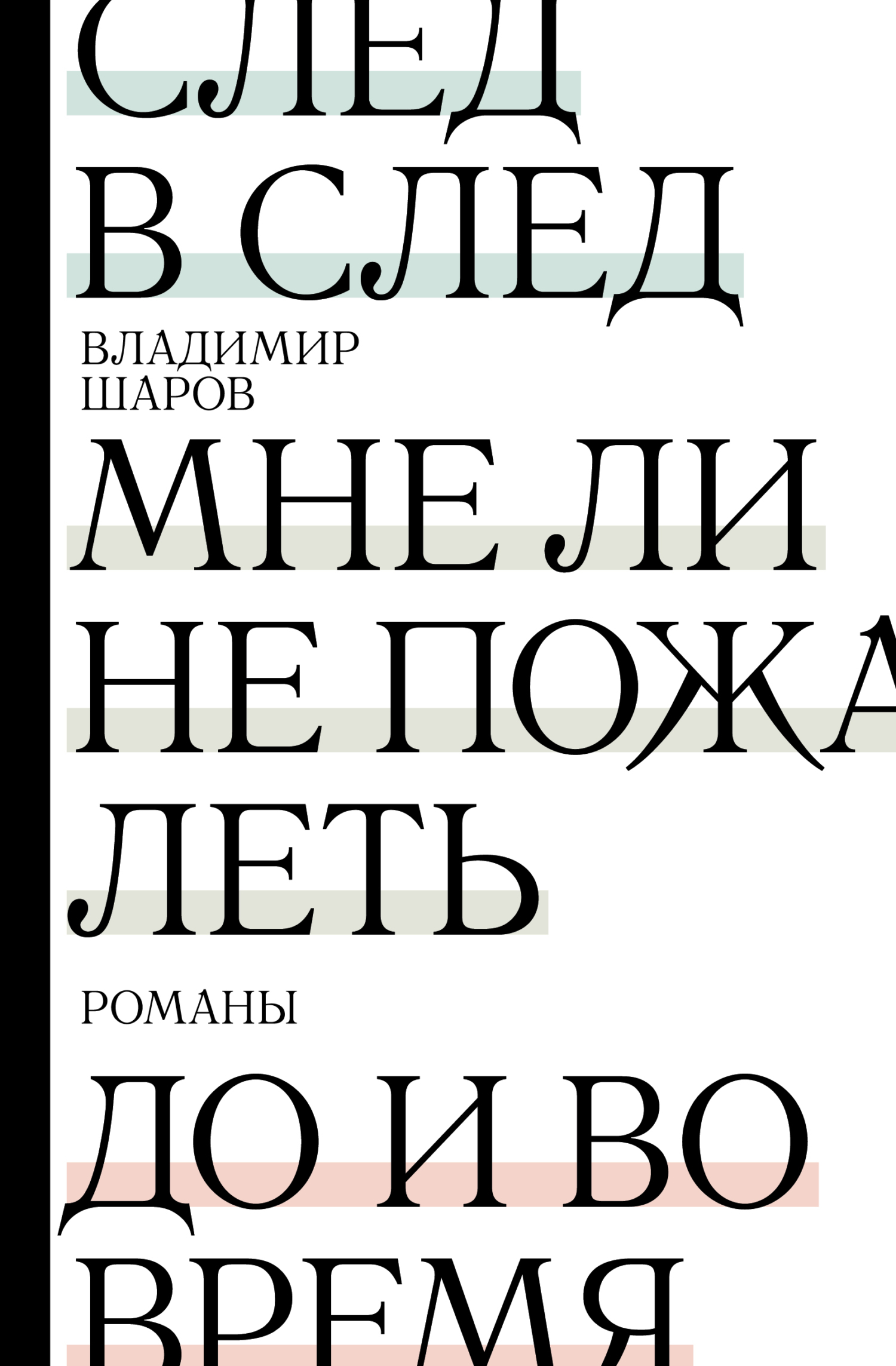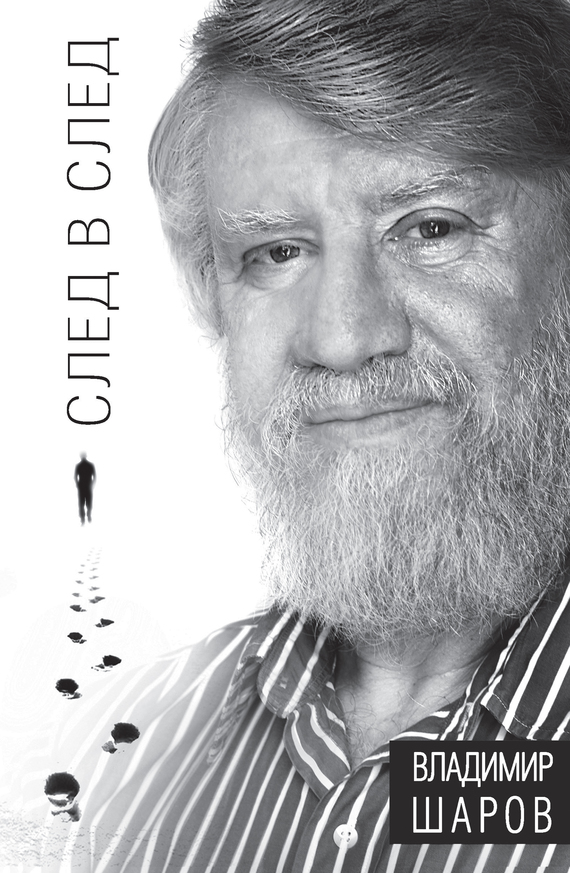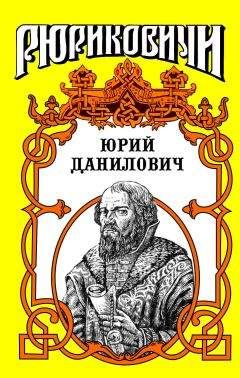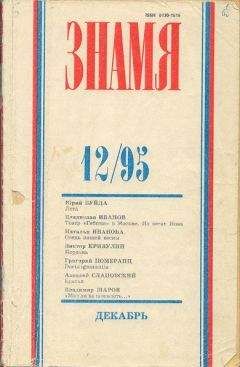их разрезать и препарировать. Господи, я, конечно же, не должен был идти этим путем, не должен был смотреть на них, как врачи, потому что врачебный взгляд давно и однозначно приговорил их к смерти, я же надеялся исцелить. Но я просто не знал, как со всем этим справиться, запутался.
Раньше другого меня поразило не то, что больные сами про себя рассказывали живое, что в них еще была жизнь, а что, как оказалось, нянечки искренне на них обижались, почитали хитрыми и лживыми. Что они боялись их и боролись с ними как с равными, то есть знали, что они живые. Потом я записал, что, в сущности, все больные – и те, кто обычно беззаботен, и те, кого я знал мрачными и отрешенными, похожими на тени недобрых птиц, – отказались от всего нового: впечатлений, отношений, людей, то есть они не хотели ни в каком виде продолжения жизни, не видели в ней ничего хорошего, достойного внимания; единственное, для чего она еще была им нужна, почему они ее длили, – происходящее вокруг напоминало, возвращало им что-то из прежнего.
Нынешняя жизнь была для них всё время мелькающими, исчезающими и снова неведомо откуда возникающими огоньками. Огоньки походили на светляков в густой южной ночи, больные шли за ними, как за поводырем, пытаясь что-то понять, что-то найти в своем прошлом, теряли их, долго, натыкаясь друг на друга, блуждали в полной темноте, опять находили, и тогда им хватало света, чтобы увидеть, что они в больнице и жизнь кончается. В этой полной обращенности вспять, этой попытке уйти в прошлое, в сознательном отказе от будущего, признании его недостойным и ненужным – если бы их спросили, они бы единогласно высказались за то, что жизнь человечества длить дальше нет смысла, – было какое-то страшное, лишенное тепла упорство.
Легко, как во сне, переплетая события и людей из своей жизни, они в итоге получали такой нестойкий мир, что мне всё время было их жалко. Их вообще было жалко: они были суетливы, бестолковы, каждую минуту собирались в какую-то дальнюю дорогу (наверное, эта дорога вела в прошлое), спешили и всё никак не могли упаковать вещи, что-то путали, теряли, забывали. Особенно беспокойны они были ночью: в мире, в котором они жили, как бы гасили свет, его закрывали, и им пора было уходить; и тут, когда им надо было особенно торопиться, они обнаруживали, что их ограбили, разорили, что ущерб огромен и невосполним, всё нажитое пропало, и возвращаться не с чем.
Лишившиеся всего, вынужденные теперь остаться в больнице, где и другие пациенты, и санитарки, и врачи, и само место вызывало у них только страх, они становились упрямы, подозрительны, никакие доводы на них не действовали, заставить их что бы то ни было сделать было невозможно. Вместе с тем они, как один, были легковерны, по-прежнему верили, что не всё потеряно, еще есть надежда: может быть, это была просто шутка, или воры устыдятся и вернут то, что взяли. А пока они снова принимались копить необходимое для дороги, снова готовились в путь, только теперь еще чаще, еще тщательнее пересчитывая и проверяя имущество.
В стенограммах не редкость и другое свидетельство их безразличия к нынешней жизни – они, как и от прочего, отказались от своего лица, и теперь не узнавали себя в зеркале; так же и в соседях по палате они видели совсем других людей, тех, кто окружал их когда-то давно, в молодости. Это был поразительный маскарад, душа в них уже отделилась от тела и ушла, тело, в которое она была заключена, стало ей омерзительно, и она легко забыла его, сбросила, как старую кожу. Но кожа осталась, была еще жива. Плоть, лишенная души, вывернута и обнажена; и все они, особенно старухи, были бесстыдны, грязны и всё время вожделели. Они не могли больше оставаться одни, им было необходимо заполнить пустоту, и стоило случайно дотронуться до них рукой, как они начинали тебя хотеть.
Душа не просто ушла: уйдя от них при жизни, она надругалась над ними, и вот то, что свобода плоти, ее радость, радость ее освобождения, а это тоже было, связалась, переплелась в них с насилием, – толкало больных на самые дикие извращения. Им нужны были оргии, им надо было быть растоптанными, распятыми, брошенными, они должны были страдать, испытывать к себе омерзение, знать, что они грешны и непоправимо виновны, – это было условием их радости, той ценой, которую они за нее платили. Но и в похоти они были жалки: немощные и слабые, они редко доходили до конца; злясь, они плакали, снова и снова терзали свою бессильную плоть, а потом, словно их прощали, они обо всём забывали и засыпали.
Вместе с душой они отказались и от этики, в этом смысле тоже вернулись к началу, в детство. Раньше этика их сглаживала и смягчала, везде вводила начала компромисса, терпимости, – теперь же они разом огрубели. Это касается и черт лица, и поведения, и речи – всё сделалось резче, определеннее, и часто они напоминали злой шарж, карикатуру на самих себя.
Вернувшись в детство, они ушли от Бога, снова сделались язычниками. В них не осталось ничего похожего на покаяние, на сознание своей вины; не ждали они и милости. Страдания казались им лишь незаслуженной и ничем не оправданной карой, в них жило ощущение несправедливости, выпавшей именно на их долю; думаю, что в Бога никто из них тоже давно не верил. Я не сужу и не судил их, никого из них, но когда в первый день я записывал то ли их рассказы, то ли исповеди – не знаю, как правильнее назвать, – больше других сочувствие у меня вызвали инсультники.
Обычно мрачные и злобные, часто буйные (потом, когда они уставали, это сменялось апатией и отрешенностью), они хотели исправить мир силой и действием, разбить, сломать все двери и перегородки, снова открыть его, сделать сквозным и просторным. Борьба их была неудачна, они терпели поражение и для нашего мира умирали. Они отказывались от него, и он тоже от них отказывался. Переход инсультников от нормальной, деятельной жизни к необратимой болезни и больнице был очень скор, это и вправду был удар, мгновенная ломка, и они продолжали жить, зная, что в их болезни не было естественности и правильности, всего того, что в избытке имели те, кто просто впал в детство.
Часть их мозга, очевидно, и сейчас была здорова, но она не могла пробиться сквозь больные ткани, восстановить связи, найти своих; так бывает во время войны: семью раскидало по стране – кто на фронте,