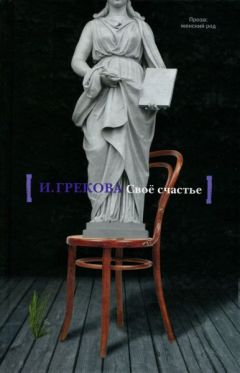«Мы вас торопить не будем», — обещал Ган. И правда, никто его не торопил. О нем словно забыли.
Он сидел в общей комнате за своим угловым столом, читал отчеты, старался вникнуть, приглядывался. Пока что получалось плохо. Чем больше он читал, тем меньше понимал. Гордость и упрямство мешали ему признаться в своем бессилии.
Ребусы, ребусы... Какие-то специальные, незнакомые ему термины. Смысл некоторых он, зная английский, кое-как понимал, другие оставались непонятными. Он рылся в списках литературы, доставал книги, журнальные статьи — не помогало. Сезам не открывался. Что ж, это естественно. Однажды он выпал из науки, из круга идей — и не мог войти обратно. Как не прирастает отрезанный палец, пересаженный орган. Организм отторгает чужеродный белок.
А как просто все это было — в той, предыдущей жизни! Они с товарищами что-то придумывали, мастерили — азартно, весело. Прокладывали свою немудрящую тропку по целине. Ныне там, где была эта тропка, разлеглась широкая, изъезженная дорога. Кто только по ней не катит!
Всего этого было слишком много: отчетов, статей, рефератов, препринтов. Он барахтался в избытке информации, тонул, курил (когда рядом не было Гана) папиросу за папиросой, а потом воровски открывал форточку...
А неуправляемые мысли все уходили в сторону, показывали ему картинки. Особенно преследовала одна: букашка на берегу моря. Обыкновенная букашка, красная с черным. Взбегали волны на песок и несли букашку. Она шевелила ножками, пытаясь уцепиться за грунт. Как только ей это удавалось, приходила следующая волна... В этих книгах, отчетах он был как та букашка.
С азбуки надо было начинать, с самого начала. Он хватался за популярную литературу, которую его коллеги презрительно называли «научпоп». Читал украдкой, заслонив грудой отчетов.
Ну и что? Эти книги были еще хуже. Вместо того чтобы трезво, просто, спокойно объяснить читателю, что к чему, они из кожи лезли вон, чтобы его позабавить. Картинки, картинки, несмешные человечки с дурацкими прозвищами, а то и полураздетые грудастые девы с выпученными глазами... А чего стоил тон этих книжек — лакейский, ернический, с прибаутками и подковырками! Закрывая книгу, он каждый раз убеждался, что ничего нового не узнал.
Казалось бы, чего проще — спросить у товарищей по работе. Нет, этого он не мог. Страшно было появиться перед ними этаким голым королем. Впрочем, однажды он попробовал задать вопрос Малыху — этот как будто был попроще других. Развернул отчет, показал особенно неясное место: «Как это понимать?» Малых прочитал абзац и лаконично отозвался: «Понимать не надо».
Универсальным пониманием обладал, кажется, один Полынин. Ходячий справочник, энциклопедия. Этот человек был ему неприятен, но все же изредка Нешатов к нему обращался:
— Игорь Константинович, посмотрите, мне не совсем ясно: откуда эта формула?
(«Не совсем»! Ничего ему не было ясно!)
Полынин брал журнал своими цепкими, длинными пальцами, проглядывал страницу и говорил что-нибудь вроде:
— И, батенька, что же это вас на такую ерунду понесло? Посмотрите-ка лучше в трудах четвертого симпозиума, там есть дельная статья Аббота. Этот вопрос у него под орех разделан.
— Простите, какая статья?
Полынин небрежно выписывал название статьи по-английски своим оригинальным, туда-сюда клонящимся почерком. Нешатов добывал статью. И что? К непониманию отчета прибавлялось непонимание статьи Аббота...
Странное дело, единственная, с кем он заговорил о своем тотальном непонимании, была Даная Ярцева, та, которая крикнула про воблу. Быстрая, сноповолосая, с маленьким ярким ртом, она забежала как-то в общую комнату, где он в одиночестве кручинился за своим столом, увидела его лицо и рассмеялась.
— Что такой грустный? — спросила она. Похоже, на «ты». Он с облегчением отодвинул в сторону отчет.
— Да вот ничего не понимаю.
— А и не надо! До конца никто не понимает. Важно схватить общий смысл. Слушаем же мы песню на чужом языке? Слова непонятны, а песня — да.
Подхватив рукой воображаемую длинную юбку, заигрывая с воображаемым микрофоном, она запела на каком-то языке, отдаленно напоминающем английский. Английскими — точней, американскими — были интонации, придыхания, полувывернутые зовущие губы. Он слушал не без удовольствия.
— Ну-ка, о чем я пела? — спросила она.
— О любви.
— Совершенно точно. Слова ничего не значили, английского я не знаю. А песня в целом ясна. Так и с отчетами надо. Не копаться в мелочах, а слушать песню.
Нешатов смотрел на нее и лениво думал: «Скорее полна, чем худа. Скорее красива, чем некрасива. Хочу ли я с нею спать? Скорее нет, чем да».
Все-таки что-то в ней было, какое-то электричество, косой взгляд зелено-ореховых глаз. Он не хотел, чтобы она уходила. Но она взяла со стола ведомость, сделала ему ручкой, сказала «гудбай» и ушла.
После этого разговора ему стало чуть легче. Может, и в самом деле она права? Слушать песню.
Вот кто откровенно не понимал и даже песню не слушал, так это Лора. С нею часто Нешатов сидел вдвоем в комнате, но они почти не разговаривали. Тонкая, высокая, светлая и грустная, какая-то нестеровская. Ей бы свечу в руки, белый плат по самые брови. В отделе она числилась инженером, окончила какой-то институт, правда заочно. Ее так и называли «заочная девушка». Знаний у нее не было никаких. По замыслу Гана, взявшего ее на работу, она должна была вести все делопроизводство отдела; она вроде и вела, но тоже как-то заочно, забывчиво, путая бумаги, теряя записи. На машинке печатала одним пальцем, с ошибками. Пробовали ее учить программированию — куда там. Синус путала с интегралом. Да она и не хотела учиться. Подлинным ее капиталом были ноги — длинные, стройные, с высоким подъемом.
Почти постоянное присутствие Лоры в «общей» раздражало Нешатова. Впрочем, его многое тут раздражало. Раздражали долгие речи Полынина — какая-то умственная чесотка. Раздражал Малых, молитвенно глядящий Полынину в рот. Раздражали Магда с Толбиным, между которыми все время проскакивали искры. Раздражали шум и гам, заполнявшие комнату всякий раз, когда в ней собиралось больше двух-трех человек (эту разноголосицу он мысленно называл «гусиным хлевом»).
Утомляло и обилие людей, которых он не знал в лицо и не мог соотнести с каким-нибудь именем. Черт их знает, были они из этого отдела или из какого-нибудь соседнего. Некоторых он видел чаще других и уже научился узнавать.
Заметен был Илья Коринец — тонкий, удлиненный юноша с синим пятном на нижней губе, с университетским значком на груди и с университетским скепсисом на оригинально некрасивом лице. Из его иронических выступлений Нешатов понял, что он бывший аспирант Фабрицкого, что диссертация у него готова давно, лежит и устаревает, потому что за два года не удалось выяснить, к какому номеру специальности она относится. Сейчас Коринец работал у Дятловой и был, по-видимому, ее правой рукой, но бунтующей правой рукой. Сама Анна Кирилловна тоже иногда заходила в «общую» и каждый раз справлялась у Нешатова: «Ну как, еще не определились?» — на что он угрюмо отвечал «нет», про себя посылая ее к черту.
Приятнее других был, пожалуй, профессор Кротов Максим Петрович — редкозубый, обаятельный, со смуглой лысиной в распаде темных волос, с мягко-картавой, льющейся речью. Его лаборатория стояла в отделе несколько особняком, экспериментальных работ не вела, занималась общей теорией человеко-машинных комплексов и съедала уйму машинного времени — львиную долю отпущенного на весь отдел. Как только Кротов появлялся в общей комнате, сразу же начиналась дружеская свара из-за машинного времени: сотрудники убеждали его умерить свои аппетиты, он отвечал «хорошо, постараюсь» своим милым картавым голосом, а когда очень уж нападали, говорил: «Пощадите, братцы, ну грешен, грешен».
В числе прочих материалов Нешатов читал и отчет Кротова под длинным названием «Математическое моделирование этической мотивации индивидуального и коллективного поведения автоматов», которое было ненамного короче самого отчета, изложенного крайне лаконично: одни формулы. Отчет был образцом современной манеры изложения математических идей, которая словно бы главной целью ставит себе скрыть от читателя эти идеи.
Однажды Нешатов отважился заговорить с Максимом Петровичем по поводу такой манеры, решительно ее осуждая. Тот охотно согласился, но сказал, что такой стиль освящен традицией, что публикации в математических журналах приходится ужимать до одной-двух страничек, лишь бы «забить заявочный колышек»; пишущему так легче, читающему — труднее... На что Нешатов ответил: «А нельзя ли вообще употреблять только одну букву; читать будет невозможно, зато писать — очень легко!» Посмеялись, после чего Максим Петрович сказал: «А вообще-то вы правы, мы на этом стиле больше теряем, чем выигрываем». Этот случай Нешатов запомнил потому, что впервые в институте он с кем-то вместе посмеялся.