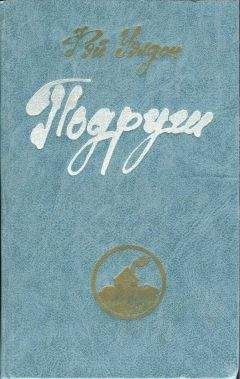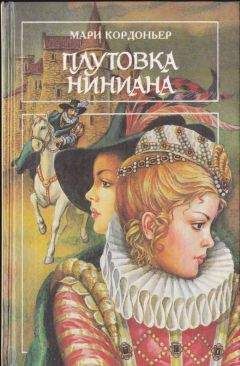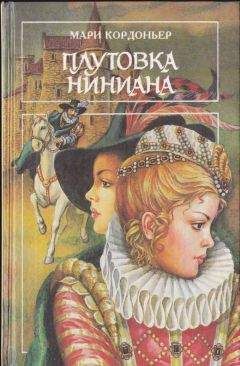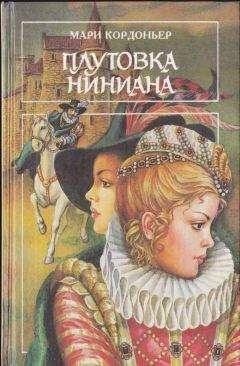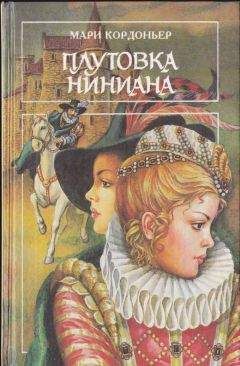Он слишком много пьет. Он ходит красный. У него широкая, твердая ладонь. Он кладет ее на локоть Гвинет, и Гвинет трепещет и улыбается. Хлоя видит это.
— Бедный, — говорит Гвинет. — Жена с ним плохо обращается. Что за ужас. Разве это жизнь?
Понимать и прощать, твердит Гвинет. Понимать мужей, жен, отцов, матерей. Прощать грызню наверху и кружку для подаяния — внизу, понимать дам в меховых манто и разутых детей. Понимать ученость в школе — Иона, Иов, природа божества… понимать, что такое Гитлер и Английский банк; понимать, отчего так некрасиво ведут себя Золушкины сестры. Проповедовать смирение женам и снисходительность — мужьям, терпение — родителям и терпимость — их детям. В мире нет совершенства; сопротивляться — значит расходовать силы, потребные на то, чтобы выжить. Стисни зубы, крепись. Понимай, принимай, смиряйся, памятуя о неизбежности собственного конца, о собственной неотвратимой тленности. Чего желать? Какой смысл? Есть ли смысл желать чего-то, если скоро тебе конец? Жди часа своего хладнокровно и с достоинством — вот и все, что ты можешь.
Ох, мама, чему только ты меня учила! И какой жалкий, подобострастный, ханжеский избрала способ уйти — изношенные тапочки аккуратно поставлены под кровать, все чинно, и никто не осудит…
Листья несъедобного салата давно пустуют. Официант отводит глаза под взглядом Марджори. Марджори, которой неблагоприятные обстоятельства всегда придают сил, заметно оживляется. Беседа — тоже. Итак.
Марджори. Ты сегодня увидишь Грейс?
Хлоя. Да.
Марджори (сердито). В таком случае, очень мило, что у тебя нашлось время и для меня. Удивительно, как это ты не сочла за беспокойство.
Хлоя. Не говори глупости.
Марджори. Мы теперь нечасто видимся с Грейс. Ей жаль меня, мне — ее, хотя она всегда на коне, в итоге.
Хлоя. А она про тебя спрашивала.
Марджори. Ну и что, подумаешь. Младенец-порнокороль все еще при ней?
Хлоя. Какой же он младенец. Ему двадцать пять лет.
Марджори. Видимо, надо сказать спасибо, что не семнадцать. Что он порнокороль — это ты не отрицаешь? Гонит ленты с голышами.
Хлоя. Ничего подобного, он снимает отличные, глубокие картины. Когда удается раздобыть денег.
Марджори. Это чьи слова? Оливера?
Хлоя. Да.
Марджори. Он, видно, тоже из Оливеровых прихвостней.
Хлоя. Ты почему так взъелась на Оливера?
Марджори. Потому что есть хочется, а официант хамит. И потому что ты — по его вине — страдаешь.
Хлоя. Не по его вине. Мужчина не виноват, когда женщина страдает. Женщины сами повинны в своих несчастьях.
Марджори. А это чьи слова? Опять Оливера?
Хлоя. Да.
Официант забирает лжесалат и приносит шпинат с колбасками по-гречески — коронное блюдо у «Итальяно», как утверждает Марджори. Блюдо передержали на раскаленном гриле, колбаса шкварчит, шпинатная слякоть подернулась зеленой корочкой. Они принимаются за еду.
Марджори. Увидишь Грейс, не забудь сказать ей, что я в настоящее время — одинокая девушка.
Хлоя. Это еще зачем?
Марджори. Она будет дико счастлива. А я искренне желаю Грейс счастья.
Хлоя, скрипнув зубами, сдерживается и молча жует колбасу.
Марджори. Нет, правда, пускай Грейс будет счастлива, я не против. Но до чего же ей всегда легко и весело. Я знаю, это за счет других — наступит, растопчет и пойдет дальше, меня просто зависть берет. Может, пока еще не поздно, мне тоже завести ребеночка и отдать тебе, а, Хлоя?
Хлоя. Нет уж, благодарю.
Марджори. Ну, вот видишь. Небось опять с минуты на минуту собирается куда-нибудь?
Хлоя. В Канн.
Марджори. Райская жизнь. Всегда все ей доставалось.
Хлоя. Не скажи. Тебе тоже перепало кое-что.
Марджори. Что, интересно?
Хлоя. Эстер и Эдвин. Ты украла их любовь.
Марджори. Да, но мне было нужно другое.
Она, кажется, не на шутку озадачена. Такое случается нечасто.
— Отличная колбаса, — говорит Марджори машинально и жует еще усерднее. Это у нее привычка — хвалить все подряд, заполняя время, когда нужно над чем-то поразмыслить. «Ой, вкуснотища!» — восклицала Марджори в далекие алденские дни, когда Эстер подавала густое, как клей, желе из красной смородины, которое никто видеть не мог. «Объедение!» — когда на столе появлялись вареные луковицы в виде комков под белым соусом, сотворенным Эстер из отрубей на молочном порошке, разведенном водой и заправленном свиным салом.
И всем больно за Марджори, столь очевидны ее намерения, столь благородны усилия быть хорошей и показывать, что все хорошо.
Семейный уклад в «Тополях». Англия в чистом виде. Костяк нации, твердыня, неподвластная переменам.
Эстер старается, чтобы в хозяйстве ничто не пропадало. Добавляет в холодный саговый пудинг томатного соусу, соли — и готов суп. Подбирает в траве на краю сада переспелые, раскисшие сливы и варит повидло. Кладет под гнет цветы — и они становятся нетленными. Стелет простыни то одним концом к голове, то другим, чтобы подольше не протирались. Молится, не зная устали, о спасении души, о Марджори, о Грейс, о Хлое, чтобы росли хорошими и все у них было хорошо. Молится, чтобы Эдвину простилось.
Когда Эдвин удит рыбу или выясняет отношения с юристами, Эстер расторопна и деловита. Когда он возвращается домой, она вновь обмякает и все у нее не ладится — кастрюли подгорают, ванна переливается, нога подворачивается, и Эстер растягивает себе связки.
Для Эдвина наступают трудные времена. Сформированный им отряд местной обороны вливается в более крупное соединение, и Эдвину некем командовать. Этот удар гонит его опять в «Розу и корону», откуда, укрепясь духом под бременем воинских обязанностей, он начал было нерешительно, как крот из норы, выползать на белый свет. А в «Укромном уголке» уже, увы, совсем иначе, чем было. То и дело на законном Эдвиновом месте рассядется обыкновенный солдат или рядовой летчик и не желает освобождать его, даже когда попросишь. Нередко в трактир набивается всякий сброд, и вполне естественные патриотические высказывания во славу Черчилля и его методов ведения войны вызывают обидный смех. И пиво кончается то и дело.
За десять месяцев Эдвин старится на десять лет. Хмель и гневливость метят ему лицо сетью багровых жил. Его усы седеют. Он все чаще взрывается, хандрит, страдает от приступов астмы и крайнего раздражения на жену. Желудок, который на протяжении лет стоически переваривал стряпню Эстер, теперь бунтует при одной мысли о еде.
Эдвин заметно совершенствуется в искусстве домашнего садизма.
Вообразим себе воскресный день, достаточно показательный для этих месяцев, когда горе, досада, отчаяние бушуют у Эдвина в душе и мир и люди, обитающие в нем, предстают перед ним точно в кривом зеркале.
Сияет солнце. Разгар лета. Море зовет. В баке хватит бензина, чтобы съездить на пляж и обратно. Эстер, урезая неделю от общей нормы, наготовила бутербродов с настоящим сливочным маслом и селедочной пастой. Хлоя принесла четыре крутых яйца — подношение ее матери от пьянчужки фермера, в тщетной надежде, что это ему зачтется в те дни, когда пиво на исходе, а виски уже кончилось. Грейс надела свое лучшее платье — красное ситцевое, в голубой горошек, Марджори вымела из «райли» мусор и до глянца начистила сиденья из настоящей кожи. У соседей одолжили надувной пляжный мяч и с трудом — девочки тянутся в рост так быстро, а карточек на одежду так мало — ухитрились обеспечить всех приличными купальниками.
Отъезд назначен на десять утра. Часы в прихожей бьют десять; Эстер с девочками собираются у гаража. (Эдвин не любит ждать, а когда приходится, вполне способен набрать воды в рот на всю дорогу.) Четверть одиннадцатого — Эдвин не появляется.
Хлою — она меньше других способна навлечь на себя неудовольствие — отряжают в библиотеку. Эдвин сидит и угрюмо смотрит в окно. Вопреки ожиданиям на нем вместо спортивной рубашки и свободных брюк форма местной обороны.
— Мистер Сонгфорд, мы готовы, — говорит Хлоя.
— Готовы? — Он вопросительно поднимает брови.
— Мы же едем к морю, — отваживается она.
— К морю? Страна на краю гибели, а мы едем к морю? Что за бред?
— Все ждут, — застенчиво говорит Хлоя. Эдвин решительно направляется к гаражу. Хлоя семенит следом. На ней материнские белые сандалеты. Мать и дочь носят туфли одного и того же детского размера, и найти обувь по ноге для них всегда проблема.
— Так-с! — В голосе Эдвина веселость. Он скалит зубы в нарочито широкой улыбке. — По-вашему, эта поездка так уж необходима?