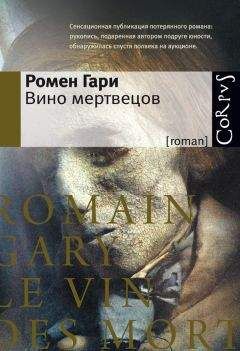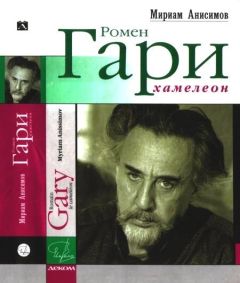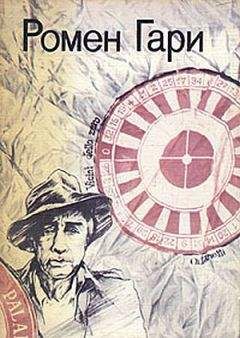– Она хрипит… Это последний спазм, Жюльетта!
– Да-да, последний, мадам Анж!
В потемках гроб непрерывно трещал, а пыхтенье все учащалось, будто кто-то старался не отстать от треска.
– А голос у нее как изменился-то, Жюльетта! Не знай я, что это она, сказала бы, что там, в гробу, мужчина! Вы слышите, Жюльетта?
– Да слышу, слышу, мадам Анж! Я никогда бы не поверила, что голос может так вот измениться!
Теперь в потемках слышался ровный треск и протяжное, мощное, хриплое, прерывистое дыхание.
– Слышите, как она мечется, Жюльетта? Задыхается, слышите, борется с недугом из последних сил?
– Еще б не слышать, мадам Анж! Глухой и то услышит! Недуг-то, кажется, так на нее и навалился, так и всаживает сверху!
Гроб ходил ходуном, скрипел, трещал, отплясывал в темноте бешеную джигу, точно разъяренное чудище пыталось сбросить с загривка настырного наездника.
– Слышите, как она бьется в агонии, Жюльетта? Слышите, борется с тлением?
– Да слышу, слышу, мадам Анж! Но как же изменился ее голос! Точь-в-точь как у мужчины стал. А эта гниль, мне кажется, так на нее и навалилась, так и всаживает сверху!
– Господи! Смилуйся над несчастной!
– А… аминь!
– Спаси ее грешную душу!
– А… аминь!
– Ее грешную, грешную душу!
– А… апчхи!
– Как не стыдно, Жюльетта! Как вам, негодница, не совестно чихать в такую торжественную минуту!
– Простите, мадам Анж… это все из-за вони! Щекочет нос, нет сил сдержаться!
– Боже правый! Смилуйся над несчастной!
– А… аминь!
– Спаси ее грешную душу!
– А… минь!
– Ее грешную, грешную душу!
– А… а… а…
– Жюльетта!
– Апчхи!! Простите, мадам Анж! Клянусь, нет сил сдержаться!
Трещать стало пореже и потише. А скоро перестало и хрипеть.
– Ну, все! С ней кончено. Она стала прахом. А душа ее уже вкушает райское блаженство!
– Рай… рай-ай-айское блаженство!
Тюлип, еще не отдышавшись, снова растопырил руки и пошел неверным шагом дальше, с блуждающей, скользкой улыбкой на устах, и вдруг налетел на старушку в сиреневом халате, с папильотками на голове, она держала искривленную, капающую воском свечку и чуть не сунула ее Тюлипу в самый рот, будто хотела дать попробовать на вкус.
– Извините, месье, – заговорила она дребезжащим голоском, – это не вы, случайно, так смердите?
Тюлип хотел учтиво поприветствовать старую даму сообразно ее полу и возрасту, но неосторожно задел носом пламя свечи и, взвизгнув, как укушенный, отскочил.
– О! – тряся папильотками, испуганно продребезжала старушка. – О, месье, вам больно! Умоляю, простите, я стала чуть-чуть близорукой!
– Ничего страшного, – учтиво ответил Тюлип, потирая нос. – Пустяки!
– Так, значит, это не вы? – продребезжала старушка.
– Мне, право, очень жаль, – самым светским тоном ответил Тюлип. – Я бы и рад, но увы… это не я!
– В таком случае, – продребезжала старушка, – я пошла. Пойду поищу где-нибудь еще. Всего хорошего, месье!
– Мое почтение, мадам! – поклонился Тюлип.
Но потерял равновесие, вскрикнул, непроизвольно побежал куда-то в сторону, под ногами громко хлюпала вода, возмущенно квакали жабы; и наконец, совершенно сбитый с толку, он остановился в круге желтого света. Воняло так, что Тюлип закашлялся… Прямо перед ним стоял легаш со свечой.
– Нэк! – рыгнул Тюлип.
– Да ты, брат, пьяный! – с завистью воскликнул легаш.
– Нэк! – согласился Тюлип.
Легаш принюхался:
– Дешевая сивуха! По десять су за литр! Ах ты, скотина!
– Иэк! – скромно рыгнул Тюлип.
Вдруг где-то закричал ребенок. Крик был короткий, сиплый, резкий, как ругательство. Он исходил от земли, как бы со всех сторон сразу, далекий и близкий. Как будто сама ночь крикнула вот так, детским голосом.
– Может, это он? – с надеждой сказал легаш. – От него так смердит? Как думаешь, свинская твоя рожа, а?
– Иэк! – с сомнением рыгнул Тюлип.
Желтый свечной кружок переместился, попал на какую-то дверь… То была не просто дверь, не обычная, а покойная, – дверь, похороненная по всем правилам, иначе говоря, труп двери. Но и после смерти она выполняла свою функцию: закрывала вход в могилу. Вся в трещинах, в пауках и паутине, она старалась все же сохранять достойный… неприступный… безупречный вид, но это плохо удавалось. Тем более что от прошлой, не особо благородной жизни на ней осталось постыдное красноречивое клеймо – WC. Легаш подошел, постучал… Никто не ответил. Он постучал еще. На этот раз послышись тяжелые, шаркающие шаги. Дверь открылась. Над ровным пламенем свечи нарисовалось морщинистое лицо.
– Что нужно?
Легаш молчал, воинственно топорща крысиные усы.
Тюлип рыгнул:
– Иэк!
Лицо над ровным пламенем свечи зашевелилось, морщины на щеках, на лбу пошли мелкими волнами.
– Знаю-знаю… – торопливо и хрипло заговорил отворивший дверь. – Вы по поводу мальчишки. Сказать, что он орет. Как будто я не знаю! Или вы думаете, мне приятно слушать этот ор? А куда деваться? Задушить его я уже не могу, и что прикажете делать? Моя жена болела. И гной попал ей в молоко. А ребенок орал и орал, потому что он пил этот гной. Так сказал врач. Его вызвал хозяин. За свой счет – надеялся, что мать с ребенком заберут в больницу. А он орал из-за гноя в грудном молоке. Так сказал врач. Да-да, врач. Только уже было поздно. У ребенка прогнили кишки. Прогнили, ага, из-за материнского молока. Такая штука! Из-за материнского молока. С материнским гноем. И вот он орал и орал. Тогда я взял веревку. Сделал петлю. Встал на стул. Просунул голову в петлю. Чтобы не слышать его ор. И вот я тут. Но вы же слышите…
Он поднял руку. Раздался крик, короткий, сиплый, резкий, как ругательство.
– Ребенок все равно орет.
И тут легаша осенило.
– Дайте-ка посмотреть! – воскликнул он. – У меня идея! Вы уверены, что эта малявка только орет? А может, он еще чуток пованивает? Недаром гноя насосался! Так вы уверены? Уверены?
Тот, за дверью, молчал. Лицо его над ровным пламенем свечи не дрогнуло, не дрогнули морщины.
– Ну, что уставился? – гаркнул легаш. – Заклинило?
Дверь с грохотом закрылась. Вместо лица в морщинах перед нами снова оказалась табличка WC, на диво беленькая и новенькая.
– А, чтоб тебя! – ругнулся легаш.
Он ловко плюнул в голову кемарившей на камне жабы и уныло потопал прочь, таща за собою огромную расплывчатую тень. Тюлип, задыхаясь от вони, хотел последовать за ним, но заблудился, а вскоре, сам не зная как, вдруг оказался перед девицей с пышной шевелюрой, – она сидела за конторкой с кассовым аппаратом, обезноженная, как все кассирши, и пристально смотрела на пришельца поверх зажженной свечи.
– Добрый день, мадам! – пролепетал Тюлип, пару раз сблевнув, и галантно повихлялся перед нею.
Пышная шевелюра мрачно, с рыданием в голосе отозвалась:
– Добрый день, месье…
И тяжело вздохнула. Тюлип, из вежливости, тоже. Он огляделся, но не обнаружил ничего, что подсказало бы, где он находится: свеча мало что освещала, в полумраке виднелись лишь пустые гробы. Оттуда, где они громоздились, доносился мощный храп. Тюлип достал из кармана щегольской клетчатый платок и, изящно покачиваясь, промокнул лоб.
– Смерть всегда поражает невинных, – промолвила пышная шевелюра.
– Это точно! – согласился Тюлип, все так же качаясь из стороны в сторону.
– Справки выдаются бесплатно, – душевно прошептала шевелюра. – Вы ведь из общей могилы? Небось новенький?
– Точно, – подтвердил Тюлип, раскачиваясь все сильнее. – Новенький! Именно так.
– Увы! – Пышная шевелюра возвела очи горе.
– Увы! – повторил Тюлип, тоже закатил глаза и даже подпустил слезу.
Казалось, пышная шевелюра опечалилась еще больше, но то была иллюзия, ибо большей скорби и отчаяния человеческое лицо выразить не способно.
– Ужасно! – простонала она. – Это просто ужасно!
– Да, – согласился Тюлип. – Это просто… – И, помолчав, договорил: – Уж-жасно!
Шевелюра снова вздохнула, Тюлип в утешение опять перед ней повихлялся.
– Тиф? – шепнула она.
– Точно! – радостно кивнул Тюлип, все так же, по-светски изящно, покачиваясь. – Конечно тиф!
С не меньшей радостью он согласился бы и на холеру.
– И вас закинули в общую могилу? Без гроба, прямо так… Голым, как…
Она поискала сравнение. Тюлип подсказал самое банальное:
– Как червь?
Но шевелюре, видимо, хотелось чего-нибудь оригинального.
– Голым, как это вот? – предложил он тогда, расстегивая ширинку и подставляя ее кассирше под самый нос.
– Да-да-да! – обрадовалась она и понюхала, – Голым, как это вот! Вы, верно, умерли вчера? Или… или, может быть, нынче утром?
– Да дело в том, что я… гм… я еще не очень-то и умер! – ляпнул Тюлип.
На лице кассирши отразилось вдруг такое подозрение и неодобрение, что Тюлип поспешно застегнулся и пошел на попятный.
– Но я уже в агонии! – заверил он шевелюру – При последнем издыхании!