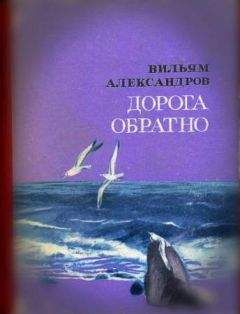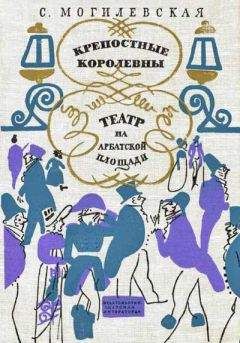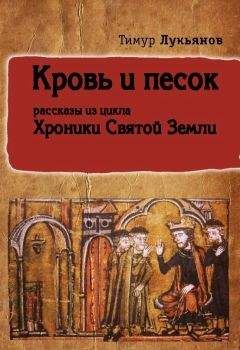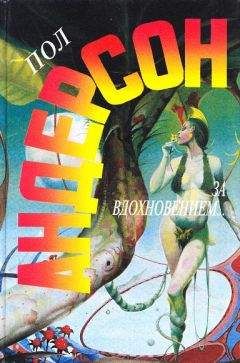Димка вместе С матерью повезли Нелю к поезду, сами усадили ее. А она была безучастная, равнодушная ко всему.
И только в последний момент, когда им надо было уходить, она вдруг кинулась к Димке, обхватила его голову руками — и все кричала сквозь слезы: «Нет, нет, нет…»
Пришлось людям отрывать их друг от друга, и Димка прыгал с подножки, когда поезд тронулся…
… Уже стемнело, когда Лукьянов подъехал к гостинице. «Хорошо, что темно, думал он по дороге, — что ничего нельзя разглядеть и узнать. Слишком много для первого раза».
В такси он сидел, глядя куда-то в пол, стараясь не смотреть по сторонам, не узнавать, не вспоминать. Цветные огни светофоров, голубые искры троллейбусов — все было такое же, как в других городах, создавало иллюзию, что он все еще там, далеко, за тридевять земель отсюда. Таксист — вертлявый парень в кокетливой форменной фуражке — несколько раз порывался что-то сказать или спросить, но так и не сказал ничего, — видно, состояние пассажира передалось ему. Лукьянов оценил подвиг и в благодарность щедро переплатил. Потом он взял из багажника свой чемодан и вошел в холл гостиницы.
Номер был заказан еще вчера, из Москвы, поэтому ждать не пришлось, его тут же провели на третий этаж, в довольно просторную комнату с широкой двуспальной диван-кроватью, широким, почти во Всю стену, окном, и большим полированным письменным столом со множеством ЯЩИКОВ.
Окно было задернуто тяжелой коричневой портьерой, звуки улицы едва долетали сюда, в номере было тихо, спокойно. Он напоминал десятки других номеров, в других городах, где Лукьянову приходилось останавливаться, я это тоже как-то успокаивало. Впервые Лукьянов с благодарностью подумал о великой силе стандарта.
Он отодвинул вбок дверь стенного шкафа, повесил на плечики свой плащ, обернулся, чтобы взять чемодан, и тут заметил на тумбочке возле кровати телефон.
И разом облетело все его искусственное спокойствие. Он смотрел на белый диск с черными цифрами внутри и чувствовал, как опять поднимается в груди волна щемящей тревоги….
Сейчас он снимет трубку, наберет номер, указанный в телеграмме, и услышит неповторимый голос своей юности, своего короткого незабываемого детства…
Он заставил себя подойти к окну, сдвинуть штору и увидеть город, сбегающий к морю мириадами теплых огней.
Он заставил себя повторить несколько раз. «Семнадцать лет», «семнадцать лет», «семнадцать лет»… И представить себе, что происходит с девушками спустя семнадцать лет.
Потом он заставил себя подойти к зеркалу, увидеть усталое сухощавое лицо, с впалыми щеками, с седеющими висками… И улыбнуться этому лицу неестественной, вымученной улыбкой. — , Вот теперь можно, — сказал он себе. — Теперь иди и звони.
Он достал из внутреннего кармана пиджака телеграмму, сел на кровать, снял трубку…
… - Я слушаю, — отозвался на другом конце провода далекий, до боли знакомый голос.
Я слушаю, — повторила она так же тихо, но встревоженно, а Лукьянов все сидел оглушенный, как будто стены валились вокруг.
— Здравствуй, — проговорил он наконец. — Здравствуй, Неля!
Теперь она молчала. Молчала так долго, что Лукьянов спросил:
— Ты слышишь меня?
— Слы-шу… — с трудом выговорила она, и он понял, что ее душат слезы. Она заплакала тихо, сдавленно, стараясь, чтобы он не услышал.
Что случилось, Неля? Ну, говори, что случилось?
— Я… Я не могу сейчас говорить… Я… — и вдруг она закричала шепотом: — Димочка!
В этом беззвучном крике было все: и отчаяние, и надежда, и воспоминания — все, все…
Наконец она успокоилась немного, спросила:
— Откуда ты говоришь?
Из гостиницы. Я только что приехал. Получил твою телеграмму и приехал.
— Спасибо. Ты прости меня, но я совсем потеряла голову…
— Так что же все-таки произошло? С Андреем что-нибудь?
Нет, с Димой, с сыном… — она опять заплакала и долго не могла успокоиться, но он терпеливо ждал, соображая, сколько лет ее сыну, должно быть, лет шестнадцать, ведь он родился через год после того, как Лукьянов уехал.
— Так что же все-таки, в двух словах?
— Его… Он… в тюрьме…
Последнее слово она произнесла через силу, и столько ужаса было в ее голосе, когда она сказала «в тюрьме», что Лукьянов понял: для нее само это сочетание — сын и тюрьма — было невыразимо страшным, не укладывалось ни в мозгу, ни в сердце.
— Так… — сказал Лукьянов. — Как тебя найти? Где ты находишься?
— На даче. Мы ведь в Москве живем, а здесь у нас дача. На шестнадцатой станции. Ты не забыл, как ехать?
— Я ничего не забыл, Неля. Ничего…
Она замолчала. Он слышал в трубке ее затаенное дыха мне. Может быть, в эту минуту она пожалела, что вызвала его? Не надо было этого говорить.
— Прости, — сказал он. — Где находится дача?
— От трамвайной остановки сразу влево, по Красноармейской, до Прибрежной, потом направо. Улица Прибрежная, восемь.
— Хорошо, сейчас еду. Андрей здесь?
— Нет, он в Москве. Отпуск кончился, ему пришлось уехать.
— Понятно. Телефон на даче?
— Да. Когда приедешь, позвони, я встречу тебя.
Не надо. Я сам найду. Жди…
Он хотел уже повесить трубку, но она вдруг тихо сказала:
— Дима…
— Да?
Ты не сердишься, что я вызвала тебя?
Глупости. Давно мне надо было приехать, повидать тебя, Андрея. Да вот никак не получалось… Ты правильно сделала…
Он хотел еще что-то сказать, но передумал.
— Ладно, встретимся, обо всем поговорим. Успокойся…
Он положил трубку, прошелся по комнате, остановился у окна.
Город зажег уже все огни. Он смотрел на Лукьянова миллионами своих теплых, участливых глаз и словно спрашивал: «Ну, что же ты? Неужели не рад нашей встрече? Здравствуй!»
— Здравствуй! — сказал Лукьянов.
Он доехал в такси до Красноармейской, а там пошел пешком, хотелось почувствовать близость моря, да и к мысли, что он снова здесь, на шестнадцатой станции, надо было еще привыкнуть.
Море он всегда чувствовал издалека. Еще его не видно, не слышно. Еще, казалось бы, и воздух городской, пыльный, но что-то в нем уже есть такое, что Лукьянов знал — море где-то рядом. А потом, поближе, появлялся тот неповторимый, волнующий запах моря, вернее даже не запах, а дыхание его, потому что оно налетает волнами, от которых теснится грудь и к горлу что-то подступает.
Он вышел на Прибрежную и уже явственно услышал из тьмы его голос — ровный, шелестящий шум прибоя.
Лукьянов остановился. Долго стоял, вбирая в себя этот голос и запах детства, стараясь одолеть вихрь воспоминаний, снова налетевший на него…
… Выезжали они с матерью морем, город был уже на осадном положении, железные дороги отрезаны. Несколько суток плыли они до Мариуполя, а оттуда ехали эшелоном, сами не зная куда, пока их не выгрузили в Свердловске вместе с заводом, который эвакуировался тем же эшелоном.
Димка поступил на завод учеником токаря, научился точить корпуса для мин. А мать устроилась в литейный цех, шишельницей, делала такие странные песочные бабки из черной земляной смеси — они шли на литейные формы, в которых отливались те же корпуса. У матери были золотые руки, она быстро освоила новую специальность, лепила бабки так, что дух захватывало, зарабатывала хорошо. А если учесть, что у них было две рабочие карточки, да еще паек иногда выдавали, жили они по военному времени неплохо. Она все мечтала: вот кончится война, вернутся домой, Нелю к себе заберут и пойдут они вместе с Димкой в школу, как прежде.
Но не суждено ей было дожить до победы. Зимой сорок третьего заболела она непонятной болезнью. Ничего у нее не болело» только худела она день ото дня все больше и силы оставляли ее. Она все крепилась, виду не подавала, на работу упрямо ходила, говорила: «Я любую хворь работой вылечу», потом слегла и уже не могла подняться.
Умирала она весной сорок четвертого, когда зацвела уральская черемуха. Попросила, чтоб положили ее лицом к окну, и все глядела на деревце, худенькое, невысокое, что протягивало в окно тонкие веточки, за одну ночь вспыхнувшие белым цветом.
На акацию нашу похожа… — проговорила она едва слышно, одними губами, и еще что-то хотела сказать. Димка наклонился к самому ее лицу и услышал, как она прошептала: — Нелю найди…
Это были ее последние слова.
Димка остался совсем один. И когда в общежитие, где он жил, вдруг пришло письмо из Новосибирска, написанное Нелиной рукой, он воспринял это как чудо. Неля писала, что разыскала его через центральный эвакопункт в городе Бугуруслане, а Димка и представить не мог, что в водовороте войны, среди миллионов перемешавшихся судеб, где-то, в каком-то Бугуруслане, записана и его судьба… Потом вспомнил: приходили к ним в общежитие год назад какие-то женщины, переписывали всех эвакуированных, и его с матерью записали, Неля сообщила, что через Бугуруслан разыскал ее отец, он жив, прислал ей аттестат, она деньги за него получает, спрашивала, не надо ли помочь ему с матерью, она вполне может это сделать. Писала, что живет у Новгородцевых, учится вместе, с Андреем в школе, правда, отстала на год, так как болела сильно, простудилась, когда приехали в Сибирь, было у нее крупозное воспаление легких, спасло её то, что отец Андрея достал несколько ампул пенициллина, но сейчас уже все прошло. Писала, что очень скучает по Димке, спрашивала, не сможет ли он переехать к ним в Новосибирск.