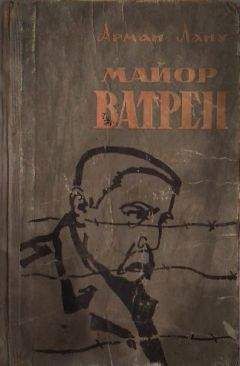— И в эту войну было так?
— Ну да. Знаете, нигде внешние формы не сохраняются так прочно, как в суде, если, только не говорить о церкви… Чему же вы обучаете ваших учеников по истории?
— Делу Дрейфуса, господин капитан.
Ответ прозвучал, как удар хлыста.
Капитан Пьерэ де Аруайе пожал плечами. Что ж, хорошо отвечено. Как бывший читатель «Же сюи парту» он не мог удержаться, чтобы не подразнить учителя.
— А знаете, военно-полевые суды иногда еще упрощают процедуру. Я думаю, что в мае и в июне, если такие дела случались, довольствовались упрощенным церемониалом. Война это война.
— Да, — ответил Франсуа Субейрак, — таково одно из моих первых впечатлений в плену. Мы шли полем недалеко от Вузье. Мимо двигалось немецкое подразделение с капитаном во главе… Он ехал верхом и высокомерно сказал нам: «Das ist Krieg».
— Русские — тоже наверно так говорят… Чтобы сделать омлет, надо разбить яйца.
Они долго сидели, увлекшись разговором. Послышался стук в дверь — это, как обычно, стучал кулаком Ватрен. Старик зашел за Субейраком, чтобы идти на прогулку. Он не захотел войти.
— Благодарю за отличный завтрак, — сказал, поднимаясь, капитан Пьерэ. — Мы рассчитываем на вашу «Комическую историю», господин Субейрак. Так редко удается посмеяться.
— Господин капитан, прошу простить, что задавал вам столько вопросов. Но все же…
Капитан надевал шинель.
— …Но все же у меня есть еще один вопрос. Почему вы только что упомянули сержанта Вашэ?
— Сержанта Вашэ? — спросил гость, слегка наклонив голову. — Сержанта Вашэ?
— Да, вы сказали: «Сержант Вашэ дезертировал с боевого поста…»
— Постойте. Я действительно говорил о сержанте Вашэ! Это интересно… Сержант Вашэ, мой милый, это молодой человек, приговоренный к смерти в 1917 году в Вердене, незадолго до приезда Петена. Это удивительно! За двадцать пять лет я впервые вспомнил о нем!
— Желаю успеха в бридже, господин капитан!
Они снова шагали без устали по доскам, по песку, вдоль колючей проволоки, совершая свой обычный обход. Вопреки календарю, собирался дождь. По небу над деревянным городком и его жалкими башнями плыли грязно-серые тучи, напоминавшие то раздутые меха, то каких-то уродливых чудовищ.
Их было четверо — Субейрак, Ван, Ватрен и артиллерийский капитан Сильвэн, доминиканец, преподававший теологию в Темпельгофском университете; был там и такой курс!.. Ван рассказывал Франсуа новости о подкопе. Туннель успешно продвигается. После того как Параду и Ван соорудили трубу из насаженных друг на друга килограммовых консервных банок и облегчили таким путем приток воздуха, работа пошла быстрее.
Франсуа улыбнулся, вспомнив сложную систему сигнализации, неуловимую для непосвященных. В случае тревоги офицер, стоящий на страже, держал особым образом сигарету или надевал пилотку не совсем так, как обычно.
— А вентилятор? — спросил он.
— Будет готов дня через три.
Они машинально шагали, и Франсуа казалось, будто это безостановочное движение не только не имеет цели, но, наоборот, уводит от нее по концентрическим кругам, все глубже втягивая его в унылую лагерную жизнь. Он не верил в подкоп. Все эти подземелья были ему физически неприятны. Точно то же происходило в его собственной жизни. Началось на передовых со свободы воли в бою. Круг сузился в конце мая вокруг человека из Вольмеранжа и стал еще теснее во время злоключений бравого батальона в Ретельском лесу. Сейчас круг ограничен песками этого лагеря, а завтра, может быть, он еще больше сократится. Тоска все чаще овладевала Франсуа. Он чувствовал, что она связана с человеком из Вольмеранжа и с майором Ватреном и что если бы ему стал понятен смысл их жизненных драм, столь несхожих между собой, — он сразу обрел бы некую простую и бесспорную истину.
Подчас Франсуа спрашивал себя: не объясняется ли эта тоска обычной для заключенного неврастенией и не теряет ли он постепенно контроль над собой?
— Господин майор, — сказал он, — меня уже несколько месяцев одолевают размышления о том, что произошло в Вольмеранже. Это тягостное, беспокойное чувство становится настоящим наваждением. Если военный суд происходил по правилам — а они мне теперь известны, — то осужденный знал, что он приговорен к смерти. Ему прочитали приговор.
Он остановился, чтобы объяснить заинтересовавшемуся капитану Сильвэну сущность дела.
Когда они проходили мимо I блока, русских не было видно. Франсуа продолжал:
— Вы видели, господин майор, что осужденный имел физическую возможность бежать. Он казался человеком решительным и храбрым. И тем не менее, он не бежал.
— Постойте, постойте, — возразил Ватрен. — Он мог убежать лишь до вашего визита в эту бакалейную лавку. Или же во время него. Потом там находился я.
Некоторое время они шли молча, слышалось только шуршание песка под ногами.
— Субейрак, я сторожил этого человека до рассвета.
Франсуа судорожно глотнул слюну.
— Господин майор, в его распоряжении был час или два, он не воспользовался этим. Что же, следовательно, у него была еще надежда? Если так, значит ему не читали приговора. Господин майор, это ужасно, но, хотя этого я не могу доказать, я убежден, что в безумной обстановке, созданной поражением, все дело было фальсифицировано. Это преступление.
— Преступление? — переспросил майор.
— В самом деле, — заметил доминиканец, — если дело обстояло так, то это похоже на преступление.
— Почему? Объясните понятнее, — сказал Ватрен.
— Вы знаете полковника Розэ. Он был яростным фанатиком военного дела и презирал запасных. Он очень ревниво относился к своему авторитету, плохо владел собой. Власть, которой он был облечен, превосходила его силы: в его характере было что-то женское. Нервный, подвижной, он бывал, наверно, на высоте в момент атаки, штурма. Розэ воспользовался инцидентом, действительно имевшим место, хотя другой командир в подобном случае постарался бы замять дело. Почему он так поступил? Из страха, под влиянием событий тех дней, когда разваливался фронт, из боязни потерять авторитет? Может быть, он хотел взять в руки свой полк, так как он всегда вызывал в нем сомнения? Может быть, тут сыграл роль гипноз коммунистической опасности, в которую он верил: «ведь его полк формировался на севере из крестьян и рабочих, внушавших ему страх, потому что он ничего не понимал в коммунизме. Он был недоволен своими солдатами, чувствуя с самого начала, с сентября 1939 года, их скрытое сопротивление — оно объяснялось дурным настроением, складом характера этих северян. Он никогда не любил своих солдат, они казались ему слишком угрюмыми, и хотя они дрались хорошо, все же каждый из них не соответствовал его представлению о том, каким должен быть образцовый солдат. Я не утверждаю, а лишь пытаюсь понять. В общем, им руководило сложное чувство кадрового офицера, защищавшегося от войны, ввиду того что она приняла чересчур гражданские формы. Он решил воспользоваться возможностью, которую давно искал, и дать наглядный урок на примере этого солдата, бывшего чужаком в полку. Он „создает дело“, ни с чем не считается, выдает движение безотчетного гнева за „угрозу смертью“, нажимает на военный суд и добивается казни человека, который в данном случае был лишь козлом отпущения».
Ван удалился из деликатности, а может быть, потому, что не одобрял настойчивости своего друга Субейрака. Франсуа шел посередине, между двумя старшими офицерами. Ветер развевал полы шинелей. Изредка на их лица падали мелкие капли дождя.
— Что за обвинительная речь! — воскликнул Сильвэн, доминиканец.
Ватрен, опустив голову, продвинулся чуть вперед — Франсуа и доминиканец обменялись взглядами. Наконец Сильвэн намеренно ровным голосом произнес:
— Я понимаю взволнованность вашего офицера, господин майор. Уверяю вас — оно законно.
Ватрен обернулся. Франсуа увидел на его лице уже знакомое ему выражение загнанного вепря.
— Я никогда не любил полковника, — резко сказал Ватрен. — Но Розэ погиб на Сене с остатками полка в тот самый день, когда я клеветал на него, утверждая, что он бежал, не предупредив нас. По правде говоря, я думаю, что вы не правы, Субейрак. Нет. Прежде всего, военный суд подчинялся не Розэ, а генералу, командовавшему пехотной дивизией.
Вот как, оказывается, майор Ватрен тоже очень интересовался этим делом?
— Да. Следовательно, — продолжал Субейрак, — полковника негласно поддерживал председатель военного суда, недовольный тем, что пополнение состояло преимущественно из рабочих, уволенных с заводов… Не так ли, господин майор?
— Это верно.
— И председатель также был убежден в необходимости дать наглядный урок? Урок! За три месяца до этого генерал, о котором идет речь, пожертвовал отдыхом своих солдат, чтобы заработать еще одну звездочку. Он был из того же племени, что и полковник. Что же, это только углубляет вопрос.