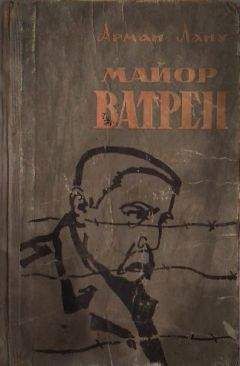— Смотрите, — заметил доминиканец, — не углубляйте его слишком, а то вы распространите свои выводы на всю армию.
— А если именно в этом существо дела? — с силой сказал Ватрен. — Да, судя по слухам, генерал не хотел, чтобы его часть сменилась с передовых. Но я и этому не верю. Я думаю, что из нашей бедной дивизии выжимали больше, чем из других, только потому, что, хоть она и не блистала ни выправкой, ни дисциплиной, все же она — одна из немногих боеспособных, если не считать кадровые соединения… И, кроме того, Субейрак, вы забываете, что ведь существовали и другие члены суда.
— Но если в судебной процедуре не допускали нарушений, если подсудимому прочитали приговор и заранее сообщили, что его расстреляют, — чем же вы тогда объясните, что он не пытался бежать?
— Оставалась еще надежда на помилование, — ответил майор.
— Возможно. Человек не пытался бежать, потому что ждал ответа на просьбу о помиловании. Но Франсуа не верил в это. Тон майора был не очень убедителен.
— В конце концов, одно из двух, — упрямо продолжал Франсуа, — сидя там, в этой бакалейной лавке, человек либо знал, либо не знал. Если он не знал — значит это убийство. Если он знал, — тогда я не понимаю. Ведь это же был храбрый человек. И умер он мужественно. Он не захотел, чтобы ему завязывали глаза.
— Может быть, он был подавлен неотвратимостью судьбы? — заметил Сильвэн.
— На его месте мне было бы страшно. Именно поэтому у меня хватило бы смелости бежать. Ко мне смелость всегда являлась таким образом — через страх!
— Это верно, — сказал Ватрен. — Храбрость в том и заключается, чтобы поступать так, словно ты не боишься.
— Порой мне приходит в голову самое ужасное, — сказал Субейрак. — Человек знал. Но не верил. Не верил, потому что его совесть была чиста. Он не думал, что невинного человека могут расстрелять. Я пришел той ночью в бакалейную лавку. Я его видел…
— Я как раз хочу задать вам вопрос, который мне бы следовало задать вам тогда. С какой именно целью вы пришли тогда в бакалейную лавку?
— Я… я не знаю. Мною уже тогда владела мысль о том, что готовится убийство. Я пришел посмотреть на этого человека, только для этого. Чтобы понять… А потом…
Он замедлил шаг и добавил со страстной настойчивостью:
— Я считал: кто-нибудь должен предупредить этого человека о том, что он приговорен к смерти… чтобы не лишать его последнего шанса на спасение.
— В вас много романтики, Субейрак, — вставил Сильвэн.
— Именно так я и думал, — сказал Ватрен. — Я велел вам той ночью сесть под арест, чтобы спасти вас от самого себя. Слушайте, мой мальчик, слушайте внимательно. Я подумал тогда о своем сыне. Мой сын отнесся бы к этому так же, как вы…
Он вдруг взорвался:
— Неужели вы думаете, что в семнадцатом году мое сердце было на стороне тех, кто расстреливал восставших?
Приступ гнева тотчас прошел, но Франсуа хотелось обнять Старика за этот выкрик.
— Господин майор, вот… если бы вы разрешили задать вам вопрос личного порядка?
— Давайте, мы ведь здесь полуштатские, на полуокладе, на полупайке.
— А вы, господин майор, вы сами?..
— Я?
— Вы. Зачем вы пришли тогда в лавку, хотя были так же измучены, как и все мы?
— Я чувствовал, что в воздухе пахнет глупостью. Я подумал, что именно вы с вашей неуравновешенностью можете оказаться способным на нее; ведь из всего батальона только вы, и врач значились в графе «Б»… И в конце концов — к черту эту ночь и этого человека из Вольмеранжа! Сегодня не видно телеги, но там ежедневно умирает по тридцать человек! А сколько людей гибнет в России, в Северной Африке, везде! Тогда была война, один человек не шел в счет.
— Вы действительно так думаете, майор Ватрен? — спросил доминиканец.
— Нет, святой отец, нет, на самом деле я думаю не так… А впрочем — да. Я сам не знаю. Одна половина во мне считает, что это не имеет значения. А другая половина, наоборот, считает, что это очень важно.
Они продолжали шагать.
— Прежде я вовсе не думал, так было гораздо лучше.
— Господин майор, а если поставить вопрос иначе, — сказал доминиканец, — например: была ли возможность избежать казни этого человека? Была ли его смерть необходима?
Майор ответил тотчас со всей прямотой:
— Не думаю, чтобы его смерть была необходима. На месте судьи я бы дал ему шесть месяцев тюрьмы.
— Значит, это было преступлением, — сказал Субейрак.
— Шла война, — возразил Сильвэн.
— Das ist Krieg, — зло усмехнулся Субейрак.
Впрочем, ирония больше не действовала на них. Они по-прежнему шагали. Шел дождь, но они не замечали его.
— Это преступление, — с силой промолвил, наконец, Ватрен. — Это преступление, и виновен в нем я. Я помешал этому человеку бежать, нарочно оставаясь при нем до рассвета. Я вам говорю, Субейрак, — под конец парень понял, в чем дело. Он это понял, когда вы вошли. Думаю, что ему не прочитали приговора. Это я убил его.
В голосе Ватрена послышались хриплые, всхлипывающие звуки. Он споткнулся, попав ногой в щель между досками, изъеденными сыростью, и, выбросив вперед руки, с трудом сохранил равновесие. Он продолжал:
— Сама война — преступление. Я всю жизнь воевал. С бошами — это совсем другое дело. И все-таки я…
Он остановился, посмотрел на свои руки, поднял к небу угрюмое лицо, его шея напряглась. Нельзя было без волнения смотреть на это лицо старого ребенка с приклеенными зачем-то седыми усами, поднятое кверху, к померанскому небу, как маска, воплощающая всю человеческую скорбь. Сердце Старика готово было разорваться. Он тяжело дышал. Они слегка подтолкнули его, и он снова задвигался, как старые часы.
Дождевые капли падали на песок.
Спутники удрученно молчали.
— Так вот, понимаете, — нет, мой мальчик, дайте уж сказать, — когда после Вольмеранжа я увидел, что вы продолжаете воевать без револьвера, мне это было очень тяжко. Когда я увидел, что один из моих лучших офицеров воюет без револьвера…
— Потом он обзавелся карабином, чтобы лучше было убивать, — сказал Субейрак.
Они шли. И дождь продолжался.
— Что такое Бийянкур? — спросил майор.
Прошло немало времени, прежде чем Франсуа ответил:
— Бийянкур — это автогенная сварка. Люди работают в масках, обжигают себе легкие. В качестве противоядия получают ежедневно по два литра молока. Они думают только о том, как вырваться из этого ада. Большинство из них не живет в Бийянкуре. Они приезжают издалека, из пригородов. Они встают спозаранку, едут два часа поездом и метро, чтобы выпить свои два литра молока. Они в аду, но они ни в чем неповинны. Бийянкур — это ад. Конечно, каждый третий или четвертый — не знаю точно — коммунист. Они не верили в эту войну. Хотя годом раньше они в нее еще верили. Здесь причина пораженчества. Никто не смеет говорить об этом, если он на собственной шкуре не испытал, что такое Бийянкур. Они не верили в войну. Они верили в освобожденный мир. Они думали, что войну ведут кадровые военные, — именно ведут, приводят к войне. Человек из Бийянкура ненавидел нас: мы были теми, кто мешал ему уйти из ада.
— Вы думаете, — спросил Ватрен, — что они такие же искренние коммунисты, как, например, мы на севере — искренние католики? С такой же силой веры?
— Да, — ответил Субейрак, — я так полагаю.
— Вы коммунист, сударь? — спросил доминиканец.
— Нет. Я не знаю, кто я. Но я начинаю понимать, чего я хочу. Я не желаю эксплуатации человека человеком. Я хочу свободы для человека. И какого-то минимума денег, без которого нет свободы.
— Послушайте меня, — возразил майор. — Человек из Бийянкура был коммунистом. Так записано в его личном деле — я держал это дело в руках, полковник Розэ направил его в мой батальон. Человека из Бийянкура мобилизовали в 1939 г. Сначала он работал в тылу, потом из-за своей антинациональной деятельности был отправлен на фронт. Ну, и кроме того, у меня есть о нем и другие сведения из более достоверного источника, от него самого — мы с ним говорили, когда он понял, что я не собираюсь уходить. Он сказал, что он коммунист. Я всегда буду помнить его взгляд. Не пытайтесь разобраться, мой мальчик, не мучайте себя напрасно. Я потом узнавал об этой истории, мне рассказывал о ней майор Ле Дантек — член военного суда. Солдат прибыл в полк в тот самый день, вместе с эшелоном в сто пятьдесят человек. Его послали в порядке дисциплинарного взыскания. По словам Ле Дантека, эта партия скорее напоминала стадо, нежели воинскую часть. На полковом КП к вновь прибывшим вышел полковник Розэ. Он был в белых перчатках, а люди ничего не ели со времени отъезда, то есть тридцать шесть часов. Розэ хотел обрисовать им положение. Один из солдат вышел из рядов, положив руку на штык. Угрожающий жест по отношению к Розэ действительно. имел место. Это было движение гнева. Полковник Розэ истолковал его как покушение на убийство. Он имел право на это. Однако вопрос о передаче дела в военный суд был решен не полковником, а генералом. Суд начался немедленно, в тот же вечер, за полтора часа до того, как меня предупредили. Такова правда. И не ищите больше, не терзайте себя.